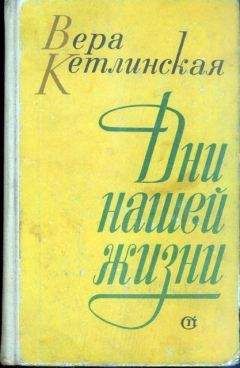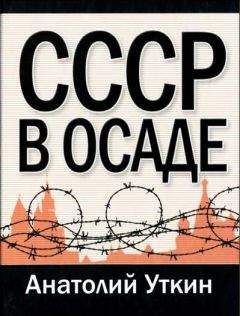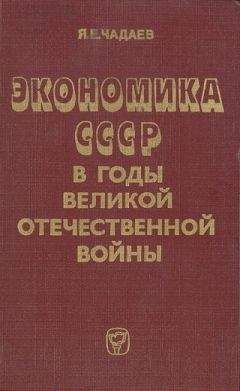Вера Кетлинская - В осаде
Они дочитали доклад до конца, стоя плечом к плечу в лесу среди снежных сугробов, не замечая, как коченеют на морозе пальцы, бережно поддерживающие газетный лист. А когда дочитали, Ирина потянула к себе газету и робко попросила:
— Я возьму номерок… для сестрёнки… Ведь пронесём, а?
— Пронесём! — уверенно ответила Ольга и стала прятать газеты, чтобы пронести их на станцию. — Мы в них яйца, заворачивать будем… Пусть читают люди.
И они пошли — две девушки — туда, где были немцы, пошли лёгким шагом, беспечно поскрипывая валенками.
8
Над улицами завивался мокрый снег. Холодное дыхание надвигающейся зимы проникало во все щели дома. И вместе с ним проникал страх — как пережить зиму?
Постояв в холодном коридоре и собравшись с силами, Мария рывком открыла дверь общежития и, входя, быстро спросила:
— Как дела, гражданочки?
С каждым днем ей становилась всё труднее притворяться бодрой, и с каждым днём всё мучительнее было совершать привычный обход «объекта». Создавая в клубных комнатах общежитие для семей рабочих, пострадавших от бомбардировок, она затратила много сил на его благоустройство. На первых порах в общежитии было чисто и даже уютно, дети копошились в отдельной комнате под присмотром двух бабушек, женщины брали воду для стирки в котельной и сушили бельё на батареях парового отопления. Но за последнее время общежитие переполнилось, а люди стали апатичными и слабыми. Дети жались к матерям и часами лежали на кроватях под шубами и платками, выглядывая оттуда большими пристальными глазами. Паровое отопление поддерживалось еле-еле, Мария старалась растянуть остатки угля на самые холодные месяцы.
— Паровое-то кончилось, — встретили Марию угрюмые голоса.
— Почему кончилось? Немного, но должно топиться, — сказала Мария и приложила ладонь к трубе.
Труба была холодна.
— Сейчас проверю, почему Ерофеич не топит.
Она с невольной брезгливостью оглядела комнату.
Старуха Семёнова лежала на постели в валенках и шубе, из-под платка выбивались нечёсаные волосы. На подоконнике стояли грязные кастрюли. Пол не мели дня три.
— Убирать надо, — строго сказала Мария, указывая на мусор. — Что же вы, гражданочки?
— Силы нету…
— Распускаться не надо, — бросила Мария и, взяв веник, стала подметать. — Неужели самим не приятнее в чистоте жить?
— Какая жизнь! — отозвалась одна из женщин. — Погляди, мой-то на работу уже не пошёл. Лежит.
Рабочий Семёнов, один из лучших каменщиков Сизова, лежал под тулупом и курил, глядя мимо Марии злыми глазами.
— Что же ты, Семёныч? — испуганно спросила Мария, наклоняясь к нему. — Или заболел?
— Заболеешь, — сказал Семёнов и швырнул окурок в угол. — Хлеба-то опять сбавили.
— Как сбавили? Что ты говоришь?
— Так и сбавили. Поди в булочную, почитай.
Мария знала, что есть в городе люди, распространяющие злые слухи. Но то были враги. А Семёнова Мария знала ещё до войны как хорошего работника и славного человека. «Поди почитай». Может ли быть, что и без того нищенская норма снова снижена? Ведь уже после праздника, тринадцатого ноября, было снижение до 300 граммов рабочим и до 150 граммов всем остальным..
— Сколько же теперь, Семёныч? — спросила она робко и представила себе, как Мироша возвращается из булочной с маленьким ломтем, который надо будет делить на ещё меньшие, ничтожные дольки…
— А такая чудная норма, что мне сто двадцать пять граммов, а мужику моему двести пятьдесят, — закричала жена Семёнова. — И бабке сто двадцать пять, и ребёнку сто двадцать пять… Живи, как хочешь!
Мария механически сосчитала в уме: значит, на меня, на маму и на Андрюшу 375 граммов в день, 375 граммов на всех… Надо было отвлечься от своих расчётов и страхов. Надо было немедленно сказать что-то такое, что успокоило бы и приободрило всех этих мужчин, женщин и детей, вопросительно смотревших на неё. Ведь для них она была представителем власти, обязанным всё понимать и всё объяснять.
Но что сказать успокоительного, когда впереди — голод, самый настоящий голод, да ещё зимою!
— Плохо, — сказала она, присаживаясь. И повторила вслух: — Значит, на мою семью, на всех троих — триста семьдесят пять граммов…
Она сказала это не для себя, для них. И женщины откликнулись сочувственно:
— И у тебя, и у мамы твоей служащие карточки? Да, плохо!
— А сынишка-то, поди, больше взрослого ест!
— Ребёнку разве откажешь!
И тогда Мария сказала:
— Это голод, товарищи. Голод. И пока блокада держится, пока немцы нас душат, не может быть иначе. А они нарочно окружили нас и бомбят Ладогу, чтобы даже по озеру не могли мы получить хлеба. Они того и хотят, чтобы мы руки опустили, головы повесили, слегли на койки и перестали работать, перестали сопротивляться. Им же только этого и надо. Перестанем мы снаряды делать — им воевать легче. Перестанем оборонительные строить — им дорога открыта. Ляжем мы — они нас голыми руками возьмут.
Семёнов крякнул и приподнялся. Лицо его дышало злостью и досадой.
— Намекаешь? Устыдить хочешь?
— Хочу, — зажмурившись, выкрикнула Мария. — Хочу, Семёныч, потому что выхода у нас другого нет, только одно нам осталось: не сдаваться.
— А если человек больной?
— Какая это болезнь, Семёныч, раз лежишь да куришь? Когда болен, от табаку тошно. Не больной ты, а голодный. Но что же ты будешь делать через две недели, посидев на новой норме, если ты уже сегодня слёг?
Жена Семёнова потянула Марию за рукав:
— Не надрывай ты ему душу. Он встанет. Лучше скажи Иван Ивановичу, чтоб зашёл. Они с моим мужиком дружат.
Мария покачала головой.
— Не позову. У Иван Иваныча и так дел много. А если его помощники ложиться начали — ещё дела прибавилось.
Она подтолкнула ногою окурок, брошенный Семёновым.
— А безобразие разводить в общежитии не позволю. Ещё раз увижу на полу окурки — оштрафую и из общежития выселю.
И она ушла, с видом властным и спокойным, но со смятением и горечью в душе. Встанет ли Семёнов? И хватит ли у неё сил добиться порядка, чистоты, подтянутости от этих ослабевших людей?
В котельной было теплее, чем везде, но топка уже остывала и в серой золе чуть-чуть алели последние искры огня. Кочегар Ерофеев, пожилой и болезненный человек, спал возле котла, громко присвистывая носом.
— Ерофеев! — закричала Мария, возмущённо дёргая его за ногу. — Ерофеев! Ты что, с ума сошёл, спать на работе!
Ерофеев сел, неохотно протирая глаза.
— А ты меня накормишь за работу? — спросил он равнодушно.
— А ты советский человек или кто? — вместо ответа со злобою спросила Мария. — Ты в тепле работаешь, рабочую карточку получаешь, сколько бы ни было, всё лучше служащей! А людей морозишь, настроение у них подрываешь, как самый настоящий немецкий прихвостень!
— Эко завернула, — сказал Ерофеев и встал на ноги. — Разве так можно — сразу уже и прихвостень, и немецкий, только шпиона не приклеила. Ну, задремал немного. Так ведь подтоплю — и всё.
— Ерофеич, дорогой, — попросила Мария, чуть не плача, — добром прошу тебя — держись. Топи!
— Не чурбан, понимаю, — ответил Ерофеев. — Только не говори мне таких слов.
Мария немного погрелась у котла и, заставив себя оторваться от его тёплой стенки, пошла на антресоли, где сидели дежурные верхних постов. Это она придумала недавно — устроить в одной из верхних комнат тёплый уголок, где могли бы отдыхать дежурные. Тревоги были так часты, что не имело смысла каждый раз после отбоя спускаться, да и сил не хватало бегать по лестницам.
В дежурке у топящейся печки сидели Зоя Плетнёва и Тимошкина.
— Тихо сегодня, — сказала Мария и присела к печке. — Говорят, бомбёжки скоро поутихнут. Будто бы у немцев горючее не настоящее, а эрзац. Замерзает.
Она слышала такое предположение и не верила ему, но решила обнадёжить своих дежурных. Им было очень трудно часами выстаивать голодными на морозе.
— Всё равно, тулупы нужны, — сказала Тимошкина. — Обстрелы ведь будут.
Марии удалось раздобыть валенки, но ничего другого ей пока не дали, и мечта о тулупах — о дворницких, огромных тулупах — стала навязчивой мечтою всех дежурных. Шёл ли дождь или снег, были ли они голодны или утомлены — все верили, что в тулупах было бы легче.
— Благодать у вас, — сказала Мария, грея руки у огня. — Уходить не хочется.
— И не уходи, — откликнулась Тимошкина. — Ляг на коечку и подремли. Что бегать-то зря? Теперь бегать нельзя.
Медленные шаги возникли за дверью. Такие медленные, что все насторожились. Вошла тётя Настя, ходившая в булочную. Она добрела до стола и бережно положила на него маленький свёрток. Вынула из-за пазухи три хлебные карточки и две из них отдала Зое и Тимошкиной. По медлительности её движений можно было понять, что она всячески оттягивает минуту объяснения и всеми силами старается овладеть собою.