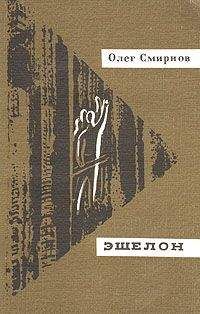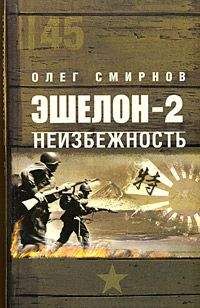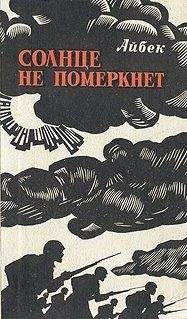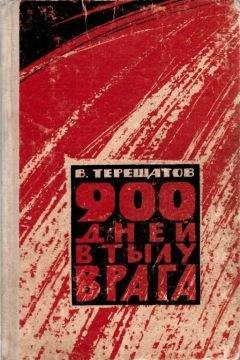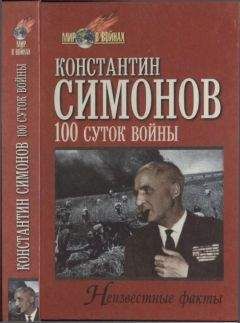Олег Смирнов - Прощание
— Победа! Товарищи, с победой!
И все зашумели, задвигались, хлопая друг друга по спинам, пожимая руки; у выдержанного, подтянутого Новожилова выступили слезы, старый коммунист Федорук перекрестился. Крутившийся здесь же Василек сказал во всеуслышание:
— Дядя Игорь, а вы улыбаетесь!
Командиры посмотрели на Скворцова, и он сам как бы глянул на себя. Улыбается! И он подумал, что после июня, наверное, ни разу еще не улыбался. А затем подумал о Паше Лободе, который совсем немного не дожил до победы под Москвой, и о других, не доживших до этой победы значительно больше. А затем он подумал о тех пограничниках, что сражаются нынче под Москвой, и о тех, что несут свою прежнюю службу на востоке и на юге, не позволяя нарушать государственную границу. Вместе с полевыми частями они сковывают японские войска и, возможно, турецкие. Эти государства, видать, не прочь бы ввязаться в войну, используя ситуацию. Но теперь она, ситуация, будет меняться в нашу пользу!..
Подмосковье! Подмосковье! Русскими снегами заносило вражеские трупы. Наступающим было недосуг их хоронить, их обыскивали, забирали оружие и документы; задубевшие на морозе, они оставались лежать, терпеливо ожидаючи погребения в чужой, неласковой земле…
В начальных числах декабря на Волыни припустили было обильные с туманом и росой дожди, словно вернулась осень, а вот сейчас подмораживало, сушило, и сверху если уж чем и сыпало, так настоящим, северным снегом. Болота и болотца не замерзали, но кое-где образовалась ледяная корка в белых пятнышках от воздушных пузырьков; ступать на такой ледок было столь же опасно, как и на ничем не покрытую болотную жижу. Она была зеленовато-черной, может, оттого болота эти прозвали Черными, ну а засевших здесь партизан немцы окрестили черноболотниками. Так они и пишут в своих листовках, разбрасываемых с самолетов: черноболотники. Вылезайте, мол, из болот, сдавайтесь германским властям, так как положение ваше безнадежное, подохнете от холода и голода, черноболотники. Тон листовок наглый, угрожающий, только вот Москву перестали поминать, будто и вовсе не существует. Еще при Лободе в отряде завели порядок: нашедший немецкую листовку обязан ее немедля сдать командованию, не читая и не показывая товарищам. Жестко, сурово? Но Скворцов согласился тогда с Лободой и сейчас всячески поддерживал этот порядок. Когда ты в окружении врагов, благодушествовать преступно. Двух бойцов, не сдавших листовки и пустивших их на раскур, едва не расстреляли. Лобода категорически на этом настаивал — в назидание другим, — Скворцов колебался и лишь напоследок уступил Емельянову, который был против такой крайней меры. Дружкам сказали: кровью искупите проступок. Хлопцы воевали нормально, но благополучно, без ранений, и крови своей не пролили, слава богу.
Что до холода, то от него не очень страдали, — в лесу сухолома много, по берегам старый камыш, а голод донимал: Федоруку и его снабженцам все не удавалось поднакопить продовольствия; что добывали — в котел, при том что норма была урезанная. И болезни донимали: простуды, фурункулы, ревматизм. Врач-немец лечил как умел, однако по-прежнему требовал от Скворцова, именно не просил, а требовал: доставайте медикаменты, то-то нужно, то-то и то-то. А где Скворцов их достанет? Разве что у соотечественников Арцта. Да это не так-то просто. Легче разжиться оружием, чем лекарствами. Всего не хватает — оружия, еды, одежды, медикаментов. А настроение боевое, бодрое. Победа под Москвой! Это — начало изгнания врага. Теперь Красная Армия погонит его вспять, на запад. А партизаны будут бить в тылу. Немцы сильны, будут сопротивляться как могут. Однако рано или поздно Красная Армия вернется на Западную Украину, на Волынь, пограничники вернутся на заставы. Дожить бы до этого. Вот дожил до победы под Москвой, это ж такая радость! Не все до нее дожили, умирали, когда враг праздновал победы. Теперь праздник и на нашей улице. И умирать не так страшно. Или еще страшней? Потому что мечтаешь дожить уже до нашей победы, когда Красная Армия войдет в Берлин. Емельянов спросил его, что он думает о сроках нашей окончательной победы, и Скворцов пожал плечами. Это можно было истолковать: не пророк я. Действительно, чего выскакивать с прогнозами? Все говорят: железный лейтенант Скворцов. А он не железный, и не сверхрешительный он, не рубит сплеча, взвешивает, решения принимает трудно, в раздумьях и сомнениях, только внешне не выказывает этого. И что любопытно: раньше, до июня, не так сомневался да колебался, теперь чаще и чаще, в больших вопросах и малых. Но когда решение принято, его надо выполнять. Тут уж никаких оглядок быть не должно, тут непременны твердость и последовательность. Победа под Москвой — залог того, что сомнений и колебаний в большом и малом снова будет меньше, твердости и уверенности — больше. Хоть одним глазком бы глянуть на подмосковные равнины, на следы разгрома гитлеровских дивизий. А ведь кто-то из сотоварищей по западной границе, кому выпало вырваться из окружения, отойти с армией на восток, осенью и в декабре принимал участие в этом историческом сражении. Есть же счастливцы! Емельянов предложил:
— По случаю победы под столицей проведем общеотрядный митинг?
— Митинг? — сказал Скворцов. — Нужен ли он?
Неизменно уравновешенный Емельянов вспылил:
— Ты что же, командир, против митинга как формы массовой работы?.
— Обстановка, сам понимаешь, какая, того и гляди появятся каратели…
— Никакая обстановка не отменяет партийно-политической работы с личным составом!
Не узнать Емельянова. Победа под Москвой столь своеобразно повлияла на него, столь взвинтила? Шучу. Не совсем удачно, наверное. Но с чего же взбеленился Емельянов, Константин Иванович? Комиссару этого не положено. Как и командиру. Митинг, разумеется, провели, вернее, митинги, по ротам. Чтобы не собирать всех вместе, не оголять оборону. Поочередно на полянку собирали роты и всласть митинговали. Но всерьез: у партизан подъем, обещают боевыми делами ответить на победу Красной Армии. Это-то и здорово! Нет, лейтенант Скворцов не против митингов, как и остальных форм массовой работы, он их приветствует. Емельянов примирительно сказал:
— Ты, Игорь Петрович, толковый строевик, но в политике хромаешь.
— На обе ноги? Костыли нужны?
— На одну ногу. Палочкой обойдешься. — И вовсе уж дружелюбно засмеялся. А Скворцов, унимая раздражение и обиду, повернулся и вышел из землянки. Ну, а чего, собственно, обижаться? Комиссары, политработники не единожды попрекали его: никудышный политик. Так оно, вероятно, и есть. Им заниматься политикой, ему — командовать. Но не связано ли это накрепко — политика и командирство? И, может, он не такой уж дремучий в политике? После блиндажной спертости кольнуло резковатым холодом; перед лицом роились снежинки, у ног они словно текли, влекомые ветром; ветер был грубый, властный, и, понукаемые им, раскачивались в темноте ветки деревьев и кустов, оголенные, заиндевелые. Из глубины леса тянуло дымом — землянки топились. Пахло жильем, людьми, жизнью! Что связано было с жизнью, что как-то напоминало о ней — грело; слишком много мыслей о смерти, ибо вокруг слишком много самой смерти, — это тебя выстуживает, от этого устаешь, и душа жаждет жизни и мыслей о жизни.
Сопровождаемый автоматчиком, Скворцов двинулся по отрядной обороне, по окопчикам, по полузалитым водой и болотной жижей неглубоким траншеям, вдоль земляного вала, который воздвигли на наиболее топких участках взамен траншеи, — шел и думал: идет по нескончаемой обороне, с незапамятных времен, ни обороне этой нет ни начала, ни конца, ни его хождениям по ней, ходил, ходит и будет ходить. Он отогнал эту навязчивую и в общем-то пустую мысль, но она онять занудила, как назойливая муха у виска. А перестал отгонять, и она отлетела сама по себе. Под сапогами хлюпало и чавкало, это было привычно для местной зимы, когда, случается, и снежком припорошит и морозцем прихватит, а грязь — не промерзает. Лишь в ходьбе согреваешься, хотя пальцы зябнут сильней и сильней. Скворцов спрятал руки в матерчатых, не по сезону, перчатках в карманы полушубка. А пальцы на ногах не согревались: шерстяные носки протерлись, портянка поверх них в просыревших, облепленных студеной грязюкой сапогах не спасала. Он сдерживался, чтобы не бухнуть дерущим грудь кашлем, горло прибаливало. А, ерунда. Устал? Есть немножко. Как говорится: и физически и морально. Но это временно, это пройдет. Теперь, после Москвы, он поздоровеет и душой и телом.
Он зашел в большой, но недорытый окоп, где на чурбачке сидели два партизана, третий через бруствер вглядывался в клубившуюся перед окопом темноту; старший доложил Скворцову, что ничего подозрительного не замечено. Скворцов напомнил им: слушать и смотреть в оба, каратели могут появиться внезапно, — попрощался и снова пошел вдоль позиций. Отойдя шагов на десять, вспомнил вдруг фамилии троицы — Мухин, Блохин и Комаров — и улыбнулся мысленно. И пожалел, что не поговорил с хлопцами побольше, не покалякал. Надо было что-нибудь сказать им душевное, свойское, а не только по службе. Сбившаяся портянка натирала ногу, потертость саднила, и это увело от возвышенных мыслей. Скворцов, прихрамывая, направился к пеньку, присел, кряхтя стащил сапог. Снизу, от ледяной словно коросты на болотной грязи, от схватившихся на морозце палых листьев — они не врозь, а комками, — потягивало сырым холодом, и сверху холодило, но посуше, хотя и мельтешили снежинки, круглые, как дробь; скорей на град походило бы, на крупу, однако это был снег, не тающий, северный. Наклонившись, Скворцов пыхтел над сапогом. Сзади безмолвно застыл автоматчик, и как бы спиной Скворцов видел: прислушивается, осматривается, палец держит на спусковом крючке, готов постоять за своего командира. Скворцов поправил носок, перемотал портянку, натянул сапог. Из кармана полушубка извлек мятую пачку сигарет. Спросил: