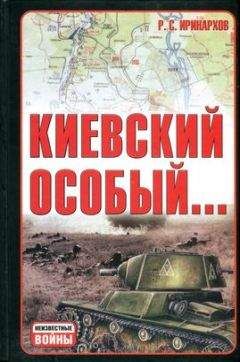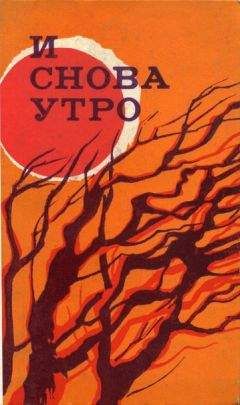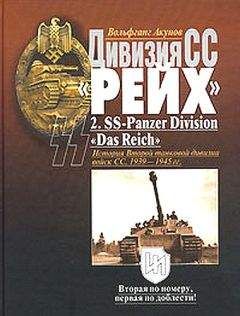Анатолий Кудравец - Сочинение на вольную тему
— Что это?
— Чай. Чтоб не замерз, если доведется долго лежать на земле.
— Где ты взяла?
— У Ивановны… Только много не пей. Он злой…
— Я перед боем никогда не пью…
Таня провела рукой по щеке:
— Примолодился, как на праздник…
— А как же — в сваты едем… А невеста капризная…
— Будь осторожен, Володя… Я боюсь за тебя…
— Ты всегда боишься…
— Мне не хочется оставаться здесь.
— Дня через три вернемся. Организуйте встречу.
— Здесь мы организуем. Вы там смотрите.
— Все должно быть хорошо… Все будет хорошо…
— Я одна буду мерзнуть. — Таня прижалась к Жибуртовичу. Ее била дрожь.
— Костусь пустит погреться…
— Пустит… — Таня подумала, тряхнула головой. — Он не любит тебя… — Они не видели, что Костусь не спит.
— Не о чем говорить. Ему ведь, наверное, и семи нет. Как он может любить, не любить… И почему?
— Он ревнует… Вчера залезла на печь. Попыталась обнять его — не дается, отворачивается. «Почему ты отворачиваешься?» — спрашиваю. «От тебя пахнет Жибуртовичем». У меня даже дыхание перехватило. «Как ты сказал?» — переспросила. Повторяет. «Усами, — говорит, — Жибуртовича пахнет». Полежали, полежали, потом он и говорит: «И зачем ты его выбрала?» Говорю: «Он добрый…» Долго лежал, думал, а потом и говорит: «Он носит мою планшетку». Помолчал немного и опять: «Но ты не бойся. Я и так тебя буду любить…»
— Я не знал, что Дёмин у него взял… Мне он сказал, что ему младший Карачун дал.
— Привези ему что-нибудь…
— Привезу…
Дверь приоткрылась, и в нее просунул голову Дёмин:
— Командир, все построились…
— Иду. — Дверь закрылась.
— Так поцелуй меня, командир…
— Будешь пахнуть Жибуртовичем…
— Пусть… Костусь все равно обещал любить… — Она оглянулась на печь и теперь увидела, что Костусь смотрит на них. — Правда, Костусь? — спросила у мальчика, но не шутя, как обычно, а совсем серьезно.
— Ыгы, — ответил Костусь.
— Разве что гак… — сказал огромный Жибуртович и, не обращая внимания на Костуся, обнял Таню, зажал в своих руках, спрятал — такой она казалась рядом с ним маленькой и так прижалась к нему, и, казалось, нет той силы, которая разделила б, разорвала их. Они гладили друг другу головы, щеки, плечи, застывали на какой-то миг, словно неживые, потом опять и опять начинали ощупывать друг друга, как будто оба были слепыми и хотели запомнить друг друга навсегда.
Кажется, даже самая длинная минута кончается, и каждое, даже самое затяжное, прощание тоже… Жибуртович вышел на улицу. Взвод стоял на другой стороне улицы, возле забора, на сухом месте. Все партизаны были молчаливые, притихшие, словно невыспавшиеся. Жибуртович прошелся перед строем. Остановился посредине.
— Где Карачуны?
— Мама не отпускает, — попытался пошутить кто-то, но никто из партизан не засмеялся, даже не улыбнулся. Все повернули головы в сторону двора Авгиньи. Оттуда как раз выходили Карачуны — отец и Витька, за ним — рядом со стариком и немножко позади него — мать, а с другой стороны, возле брата, Людмила. Следом шла Авгинья.
— Ты ж смотри, одного его не отпускай, — говорила Карачуниха, не обращая внимания на то, что на нее смотрят все партизаны и что и муж, и сын уже стали в строй и смотрели не столько на нее, сколько на Жибуртовича. — И ты смотри, — она поправила сыну воротник пиджака, поцеловала в щеку и вдруг заплакала, упала ему на грудь.
— Ну хватит, Поля, — глухо сказал старший Карачун и сморщился. — Еще будет время наплакаться…
Подошла тетка Авгинья, взяла Карачуниху за руку:
— Нехорошо поступаешь, Поля, нехорошо. Зачем растравляешь им души. Им и без твоих слез нелегко. Пускай идут здоровыми и живыми возвращаются.
Женщины отошли к воротам. К ним присоединились и Костусева мать, Таня, повыходили женщины из других дворов. Костусь стоял в своем дворе, укрывшись за калиткой. Он долго искал свои лапти, не нашел и выбежал босой, в свитке и большой зимней шапке. Земля была сырая, холодная, и он все время подпрыгивал, переминался с ноги на ногу. Где-то за спиной Костуся взошло солнце. Оно холодно побелило заборы, ветви деревьев, освежило и словно подвеселило лица партизан. Жибуртович еще раз прошел вдоль строя, внимательно присматриваясь к каждому.
— Кажется, все…
— Пошли, — сказал кто-то глухо.
— Говорить ничего не буду. Куда идем, узнаете позже, в дороге. Конечно, не на свадьбу. А теперь шагом марш!
И они пошли, грузно ступая по скользкой, недавно оттаявшей, перемешанной колесами подвод, лошадиными копытами и многими ногами людей земле.
Жибуртович немного отстал от колонны, оглянулся на Костусев двор и увидел Костуся — тот вышел из своего укрытия и перебирал синими закоченевшими ногами, — улыбнулся. От женщин отделилась Таня, побежала за ним, и они шли позади колонны аж до конца улицы и дальше. Партизаны миновали греблю и пошли в гору, но ни Тани, ни Жибуртовича не было видно. Потом Костусь пробежал по гребле один, догнал партизан, оглянулся, помахал рукой…
Бабы начали расходиться по хатам. Мать увидела Костуся и тоже погнала домой.
* * *На четвертый день после обеда по поселку на взмыленном коне проскакал Мишка из разведвзвода. Этот сумасшедший Мишка на своем коне мог перескочить любую канаву, любой забор. Возле Лисаветы — ее хата стояла в самом конце — Мишка спешился, забежал на минутку во двор, что-то сказал Лисавете, вскочил на коня и так же галопом рванул назад. Скоро цокот копыт послышался по настилу гребли. Мишка и там не сдержал коня.
Кажется, Мишка ни с кем в Буде не говорил, только заехал к Лисавете, а по деревне, как по проводам, побежала долгожданная весть: «Партизаны разнесли немцев в пух. Все хорошо. Отряд возвращается обратно». Однако эта радостная весть жила, тешила людей, пока не столкнулась с другой, тихой и страшной, от Лисаветы: Мишка сказал, чтоб подготовила хату. Туда привезут убитых партизан. Мишка не сказал, сколько убитых и кто они, но они были, и это значит — не все хорошо…
Часа через два по гребле затарахтели подводы. На некоторых из них сидели партизаны, но большинство шло рядом с подводами или по обочине дороги, где было более сухо, а на подводах были сундуки, тюки, поверх которых лежали карабины, автоматы… Возле дворов на улице стояли бабы, ожидали «своих» партизан, своих постояльцев.
Костусь в окно видел, как по улице идут одна за другой подводы, как тяжело тащатся уставшие партизаны. Некоторых он узнавал, некоторых нет. Ему хотелось выбежать на улицу, чтоб все видеть, все слышать, все знать, но мать оставила его с Вовой, а тот не хотел один лежать в люльке, плакал, крутил головой. Костусь качал его — все было хорошо, Вова молчал, начинал трясти люльку — еще лучше: Вова смеялся, раскрывая розовый беззубый ротик, а стоило оставить одного — он начинал реветь.
Костусь увидел Генку, тот ехал на стволе орудия, обняв его руками. Даже Алику партизаны разрешили проехать на подводе, и он сидел на ящике с патронами, как будто и сам был в бою, а теперь возвращается вместе со всеми. Наконец пришла мать, и Костусь кулем выкатился на улицу. Генка стоял возле своего двора.
— А у меня есть автоматные патроны, — похвалился он Костусю.
— Так я тебе и поверил!
— Погляди! — Генка достал из кармана два желтеньких патрончика. — Попрошу, чтоб Мишка дал выстрелить… Думаешь, не даст?
— Мишка-разведчик?
— Ага…
— Даст…
— И я знаю, что даст. А теперь давай сходим к Лисавете.
— Зачем?
— Туда убитых партизан повезли… И Витьку туда повезли.
— И Витьку убили?
— Ага… Их завтра будут всех хоронить. И салют будет. А Карачунихи нет, и Людмилы нет, они пошли менять одежду на бульбу. Вот слез будет, когда вернутся.
По улице все еще шли подводы с сундуками, узлами, мешками.
Было видно, что партизаны взяли большие трофеи. На одной подводе хрюкал ладный, на полтелеги, кабан с чистой белой щетиной и розовыми копытами. Ноги его были спутаны веревкой и привязаны к грядке телеги. От кабана пахло щетиной и еще чем-то очень знакомым, о чем Костусь уже совсем забыл. Ему захотелось потрогать кабана, и он достал рукой его белый бок, провел по щетине. Кабан хрюкнул, словно был доволен.
— Что, сала захотелось? — засмеялся партизан, который сидел в передке телеги. У него было хорошее настроение, и он смеялся, глядя на ребят, на то, что они на кабана смотрят, как на какое-то чудо. — Приходите вечером, хвостик дадим. Вот этот, закрученный в колечко… А?
Мальчики ничего не сказали, обогнали подводу и побежали вперед. Два широкозадых, короткохвостых битюга легко тащили по грязи тяжелое орудие. Таких орудий у партизан не было и таких больших лошадей тоже. Еще впереди два таких же битюга были впряжены в длинную зеленую фуру, высоко нагруженную ящиками со снарядами. Во многих дворах уже стояли подводы, возле них хлопотали партизаны.