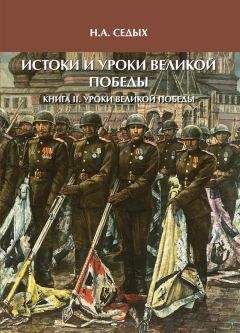Павел Ермаков - Все. что могли
— Здравствуй, сынок. Измучилась я, ожидаючи вас всех. Сподобил Господь тебя увидеть.
— Здравствуйте, мама.
Он назвал ее так по русскому обычаю, как зять зовет тещу матерью, и потому, что она теперь, действительно, для них всех — Нади, Аркадия и него — была единственной матерью.
Поправляя на голове выношенную, когда-то бывшую пуховой, шаль, она вымученно улыбнулась:
— Опять мы вместе. Не дожил до этого дня отец. Он любил тебя, Андрюша, как сына и надеялся встретиться.
Мать и дочь стояли рядом. У них было много общего во внешности, в жестах, улыбке. Ильин снова отметил, что Надя похорошела, хотя, конечно же, им нелегко тут живется. Лишь резким контрастом ко всему ее облику выглядели седые пряди надо лбом.
Под его пристальным взглядом Надя смутилась, поняла, почему он столь внимательно приглядывался к ней. Может быть, осуждал: кругом разруха, горе, а она наливалась, как маков цвет.
Из хлева, приспособленного под жилье, донеслось приглушенное: уа-уа.
— Сынок голос подает, — встрепенулась Надя.
— Ему кушать пора, — сказала мать. — Заходи, Андрюша, в наши хоромы. Раздевайся, ты — дома.
Надя быстро сполоснула руки, вынула ребенка из люльки, меняя пеленки, приговаривала:
— Кричи громче, встречай папку. Пусть знает, как ты командирский голос отрабатываешь. Вырастешь, небось, как и он, командиром станешь.
Почуяв руки и голос матери, ребенок умолк, покряхтывал, тихонько и нетерпеливо поскуливал. Ильин стоял поодаль, забыв обо всем на свете, безотрывно глядел на сына. Мальчик смешно и беспомощно морщил нос и лобик, открывал розовый беззубый рот.
Умостившись на скамейке, Надя положила спеленатого малыша на колени, расстегнула платье, с трудом выпростала из лифчика туго набухшую белую грудь. Из круглого темного соска брызнула струйка, капельки молока окропили тугую розовую щечку ребенка. Он жадно зачмокал губами, сосал, захлебываясь, пристанывая.
Надя счастливо глянула на Ильина, с радостным стеснением прикрыла обнаженную грудь. Снова та же мысль, которой Ильин подвел итоги своих печальных раздумий в вагоне, промелькнула у него в голове. Нет, не доставит он удовольствия тем, кто пытался расправиться с ним. Он еще поживет, повоюет, чтобы рос вот этот чмокающий теплый комочек, его сын, чтобы жили и другие сыновья, чьи отцы в эту минуту, может быть, бросались в последнюю атаку, сраженные свинцом, падали на бегу с пронзительной мыслью о том, что уже не суждено им увидеть своих сыновей. Нет, он не поддастся слабости, не сделает неверного шага.
* * *Потекли дни одинаково счастливые и тревожные. Ильин чувствовал, жизнь в своей семье, общение с близкими, любимыми существами, домашние дела и хозяйственные заботы, от которых вынужденно и надолго его отлучила война, были главным стимулом, поддерживавшим его дух. Каждый вечер он вместе с Надей и Марией Семеновной раскладывал следующий день по часам, намечал дела самые неотложные.
— Кровь из носу, а хату отстроим. Это перво-наперво, — ерошил он волосы, пригибаясь, чтобы не стукнуться головой о перекладину низкого потолка. — Иначе какой я мужик.
— Мужик ты, это факт. Но ведь нельзя тебе тяжести ворочать, — соглашалась и возражала Надя.
— Тебе тоже, когда ждала ребенка, это было запрещено, а глину месила, кирпичи формовала. Не должны же они без толку лежать.
— Страшно вспомнить, как зиму ожидали. Ничего, приладились, живем, — окидывала взглядом убогое жилище Мария Семеновна. — Потерпим еще. Ты бы только был здоров.
— Следующую зиму будете в теплой хате, — неуступчиво хмурился Ильин.
За несколько дней он разобрал старую порушенную кровлю, в ближайшем лесу нарубил и принес жердей. Выбрал из груды целые кирпичи, освободил фундамент, начал выкладывать стены. Приходила Надя покормить сына, приносила с почты свежую газету. Он набрасывался на фронтовые сводки.
— Слышь, Надя, все ближе граница, — называл он знакомые пункты, освобожденные нашими войсками в ходе боев.
Помнил слова военкома, что на них войны еще достанется досыта, но боялся опоздать. Хотелось знать, где воевал его полк. Но полки в сводках не упоминались. Даже армия, в составе которой воевал Днепровский полк, называлась нечасто. Было понятно, что она продвигалась в том направлении, где он вместе с Горошкиным партизанил, ему хотелось пройти по старым знакомым тропам.
Из Дубовки он написал Стогову, с нетерпением ждал весточки от него и от Горошкина. Но фронтовая почта не торопилась. Конечно, дело вовсе не в почте. Утешал себя, что не всегда среди боев есть время для письма. О том, что на войне с людьми всякое случается, старался не думать.
Когда пришла первая весточка от Стогова, несказанно обрадовался. Она протянула незримую ниточку к нему, обозначила его связь с родным полком. Тимофей Иванович писал о «хозяйстве» Ильина, то есть о штабе, так, будто хозяин отлучился ненадолго и вот-вот вернется. Из намеков Ильин понял, Стогов уже командовал дивизией и сожалел, что не довелось передать полк Ильину. Потом намекал, иначе цензура вымарала бы написанное, ему удалось снять недоразумение, возникшее между Ильиным и тем приезжим «хлюстом»… Видимо, так и было, потому что в Дубовке его пока не тронули.
Ильина взволновало письмо, даже Наде в глаза бросилась его возбужденность. Она завернула Андрюшку в одеяло, позвала мужа прогуляться.
— Слишком ты заработался, устал, — повела его за околицу.
Он шел, прижимая спавшего сына к груди. За дубовой рощей, в луговой низине пролегли прозрачно-синие тени. Солнце уходило за горизонт. В этот тихий вечерний час и рассказал Наде, что случилось с ним после того, как он с батальоном захватил плацдарм на правом берегу Днепра.
— Родной мой, что бы ни произошло, я всегда буду рядом с тобой, — выслушав, сказала она.
Безмолвно постояли несколько минут — отец, мать и сын — как бы слившись в одно целое.
В середине марта, когда с соседом-старичком наладили крышу над хатой, Ильин забеспокоился. Срок отпуска кончался, но его почему-то не вызывали на медкомиссию. Он написал в штаб войск по охране тыла фронта. Не дождался ответа, отправился в район.
Военком, уже снявший руку с перевязи, виновато объяснял:
— Непонятная бумажка пришла из области. По чьему-то повелению тебя не то совсем снимают с учета, не то продлевают твой отпуск.
Значит, генерал Рябиков все же добрался до него. Ему не ответил, не пожелал с ним разговаривать, но на военкомат туману напустил.
— Значит, армии я не нужен, — мрачно выдавил Ильин.
— Армия тут, думаю, не причем. Погоди нос вешать, — военком схватил ручку, что-то начиркал на талончике. — Я буду в области, постараюсь все выяснить. Ты, как прежде, получай харчи на продпункте.
— Подачки не приму. Сняли с довольствия, так сняли. Государство обманывать не стану.
— Не упрямься, тот, кто снял, не государство, — военком с какой-то по-детски беспомощной верой спросил: — Как думаешь, меня комиссия пустит на фронт?
— Я бы пустил, — улыбнулся Ильин.
— Ну, вот, давай обнимемся. Уверен, у тебя тоже все уладится. На продпункт зайди, я проверю.
Там же, в военкомате, Ильин написал Стогову, сердито, все, что думал о Рябикове и его действиях, и опустил письмо в ящик.
Минуло еще полтора месяца, мучительных, терзающих безвестностью. Районный военком разводил руками:
— В области тоже ничего не поймут.
Вскоре он уехал на фронт. Обратиться Ильину было не к кому. Он теперь часто ходил за околицу. Держал сына на руках, смотрел, как наливались озимые, тянулись к солнцу, полоскались под свежим ветром. Вид поднимающихся хлебов успокаивал.
Однажды, в начале мая, когда он возвращался с поля, его перехватила почтальонша, подала телеграмму. Строчки на бланке запрыгали перед глазами. Майору Ильину предписывалось срочно явиться в Главное управление пограничных войск в Москву.
14
Усеянный людьми перрон, вокзал, пристанционные постройки медленно поплыли назад, вагон закачался на выходных стрелках. Ильин облегченно вздохнул, наконец-то он поехал, во что утром еще верил с трудом. На станции областного города его поразила бестолковая суета у касс, невозможность что-либо узнать, куда-то пробиться. Люди кричали, бежали, волочили узлы и чемоданы. От всего этого он отвык за пять месяцев жизни в тихой Дубовке.
Стоял у окна, думал: зачем вызывают? Вроде совсем забыли о нем. И, на тебе, сразу в Главное управление. Неужто дали делу ход?
— Погорячился я, не совладал с собой, — задним числом осуждал он себя перед Надей. — Если б угробил следователя? Парень не со своего голоса пел. Приказали ему. Такая у них система, такая практика сложилась.
— Оправдываешь, значит, мерзавца жалеешь? — сердилась Надя, упрямо блестя глазами. — Напраслину возводить на своего офицера — в этом система? В сослуживце видеть врага — в этом практика?