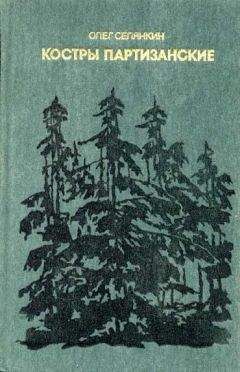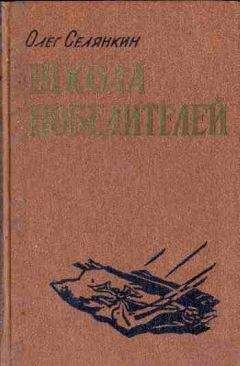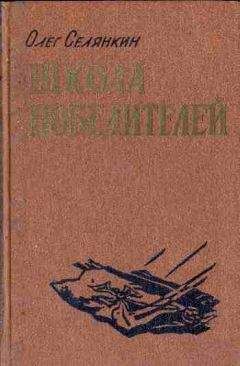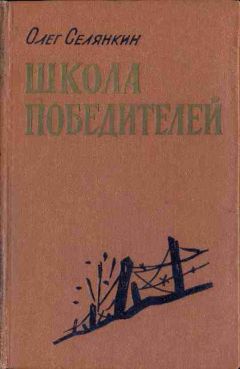Олег Селянкин - Костры партизанские. Книга 2
— Знаешь, что он сказал, когда его допрашивали?
— Кто? Кому сказал? — удивленно глянул на него Каргин.
— Пан Власик… Николай Павлович его спросил: «Кто вы по своей основной специальности?»
— Ну?
— Ассенизатором назвался Власик.
— С перепугу ишь какую специальность себе выбрал, — усмехнулся Каргин. — Будто с первого взгляда не видно, что он никогда того черпака в руках не держал.
— То же самое сказал и Николай Павлович. Тогда пан Власик с гордым видом и пояснил: «Как я понял, вы не знаете, откуда пошло это слово. Так вот, в основе его лежит французское слово «ассенизация», что в переводе на русский значит «оздоровление». Отсюда и ассенизатор — оздоровитель».
Помолчали, глядя в сторону того леса, в котором скрывались фашисты, над которым и сейчас хороводились штурмовики.
— К чему ты рассказал об этом?
— Не знаю…
Тогда Каргин понизил голос до еле слышного шепота:
— Боишься?
— Понимаешь, как-то непривычно все это. Сегодняшнее, — тоже шепотом ответил Василий Иванович.
Как-то непривычно сегодняшнее… Этим, пожалуй, все сказано: любой человек всегда неуютно себя чувствует в непривычной обстановке. Отсюда и все прочее. Казалось бы, летчику-истребителю, побывавшему во многих воздушных боях, чего бояться? А вот в прошлом году один из таких попал в роту Каргина. Сбили его над территорией, оккупированной фашистами. Самолет, конечно, погиб, а он ушел от погони, после нескольких дней скитаний по лесам и болотам все же набрел на партизан и был просто бойцом, пока его не отправили на Большую землю. Так вот, этот старший лейтенант, лично сбивший восемь фашистских стервятников, как-то сразу после одной из первых партизанских операций откровенно сказал Каргину: дескать, здесь, во вражеском тылу, на меня временами такой страх наваливается, что сам себя бояться начинаю. А ведь у него на груди три боевых ордена сияли…
Или взять того же Василия Ивановича. Разве он за печкой отсиживался все эти годы? Да он, можно сказать, и вовсе в самом аду находился! И не дрогнул, через всякое прошел. Так что, пусть сегодняшнее ему пока непривычно, от этого чувства скоро ничегошеньки не останется. Может быть, уже и завтра не останется…
И еще сутки фашисты не прекращали своих атак. Особенно упорной была последняя. Раза три фашисты, наткнувшись на плотный огонь, вынуждены были залечь. Но через какое-то время опять яростно бросались вперед, как призраки, возникали среди множества разрывов снарядов, мин и бомб.
Настолько неистовой, упорной и длительной была эта последняя атака фашистов, что, похоже, никто не заметил, как из-за притихшего леса сначала лишь выглянула свинцовая туча с бахромой иссиня-черных облаков, а потом закрыла все небо. Похоже, никто не заметил даже и того, что сразу стало темно, как поздним вечером. Ее увидели лишь тогда, когда она вдруг ударила молниями. И сразу же сначала тот лес, откуда шли атакующие, а потом и сгоревшие вражеские танки, и цепи атакующих, — все это скрылось за пеленой дождя.
Молнии безжалостно пластали небо, косой дождь с силой хлестал в лица солдат и партизан, но они не прятались, даже не отворачивались от него: вдруг фашисты вознамерятся воспользоваться моментом?
Дождь хлестал еще почти с прежней силой, когда вдруг выглянуло солнце — умытое, яркое. Заискрились капельки воды, пристроившиеся на деревьях, израненных войной, на траве, опаленной бесчисленными взрывами.
Все сразу будто помолодело, даже ожило. Тем уродливее казались и танки, и штурмовые орудия — обгорелые, развороченные снарядами и бомбами.
И в этот момент, словно они только и дожидались первых солнечных лучей, фашисты выбросили белые флаги. И на поле боя, и на опушке.
Выбросили фашисты белые флаги — штурмовики, уже подходившие к лесу со стороны солнца, не сбросили бомб, не дали ни одной очереди. Они, сделав круг, ушли куда-то дальше. Постепенно стали смолкать и орудийные батареи. И вот на недавнее поле кровавого боя упала звонкая тишина. Даже не верилось, что на земле может быть так прекрасно тихо.
А в небе уже заливались жаворонки…
Из леса, подняв руки, шли фашистские солдаты и офицеры. Они шли устало, измученно, шли под семицветную радугу, которая прочно опиралась на оба берега Березины.
Каргин и другие партизаны молча смотрели на сдающихся; им просто не верилось, что фашистских солдат здесь так много, что сдаются они в том числе и им, партизанам.
Уже почти все поле недавнего боя заполнили толпы сдающихся, а из леса все шли и шли…
Однако лишь к концу следующего дня партизан отозвали из окопов, приказали стать лагерем в лесочке, на опушке которого призывно дымили походные кухни. Тут, сытно поев, и остались. Как пояснило начальство — до особого распоряжения. Привычно быстро соорудили шалаши, развели костры и, сидя у ласкового огонька, стали неторопливо судачить о событиях, участниками и свидетелями которых были недавно, и о том, когда придет новый приказ. На какое дело бросит?
Здесь, в этом лесочке, и узнали, что десятки тысяч фашистов под Бобруйском попали в окружение и сдались. Правда, какой-то части их все же удалось прорвать окружение. Однако и эти недалеко ушли: уже через несколько часов их снова загнали в кольцо, теперь уже намертво вокруг них тиски сомкнули.
А днем 4 июля командование сообщило, что вчера Советская Армия освободила Минск. То-то ликования было!
Теперь уже почти все громко заговорили о том, что пока вроде бы отвоевались, что теперь скорее всего кое-кому и домой заглянуть посчастливится.
И вдруг Каргина вызвали к командованию бригады. О чем там шел разговор, этого, конечно, не знали, но все заметили, что вернулся Каргин очень скоро и хмурый до невозможности. Сразу же затребовал к себе Григория и около часа простоял с ним на полянке — в самом центре ее. Вроде бы и мирно, спокойно разговаривали, но после этой беседы Григорий ушел не в свой шалаш, а в тот, который по приказу Каргина спешно соорудили почти рядом с командирским; и еще — Каргин приказал дежурному по роте на сегодняшнюю ночь специальный наряд выделить: дескать, единственная обязанность того наряда — никого не пускать к Григорию, чтобы он отдых соответствующий имел.
Арестован Григорий, что ли? Вроде бы мало похоже…
Так судачили между собой партизаны. А Григорий в это время лежал на старом солдатском одеяле и немигающими глазами смотрел на звездное небо, краешек которого виднелся над входом в шалаш. Лежал и думал. Прежде всего о том, что большое доверие оказано ему, ох какое большое…
Иван прямо сказал, что это задание надо выполнить хотя бы и ценой своей жизни. Самому погибнуть, но взорвать железнодорожный мост на Припяти; дескать, для нашей армии это позарез нужно, а летчики пока уничтожить его не могут: так силен огонь зениток, так мала цель.
— И кому-то из твоих подрывников, Григорий, надлежит взорвать этот мост. Пешеходов-то по нему фашисты днем пускают… Толкового подбери. Чтобы из-за него позор на наши головы не упал, — так закончил Каргин обрисовку задания.
— Сам пойду, — ответил он, Григорий.
Помнится, Каргин как-то особенно внимательно и тепло взглянул на него и сказал:
— Еще раз повторяю: вряд ли тот человек живым вернется. К тому говорю, чтобы ты всю правду усвоил, как она есть.
— Двум смертям не бывать, а одной не миновать!
Григорий хотел, чтобы бесшабашная удаль в этих словах прозвучала, но сам почувствовал — буднично, даже с какой-то душевной тоской они упали.
Сейчас Григорию кажется, что этот разговор состоялся давным-давно. И будто с тех пор между ним и товарищами разверзлась пропасть: ведь у них-то есть шанс дожить до конца войны…
И ему до боли стало жалко себя, такого молодого, по-настоящему еще и не жившего. Действительно, что он видел в своей жизни, что свершил такого, чтобы его кто-нибудь добрым словом вспомнил? Товарищи — они, конечно, не раз помянут. А все прочие… Да и за что вспоминать его? Поди, уже и забыли того чернявого водопроводчика, который в их квартирах краны исправлял…
Выходит, как-то попусту целые годы жизни промелькнули.
И вдруг по самому сердцу резанула мысль: а как же теперь Петро? Ведь хотел после войны его с собой забрать, вместо брата, в люди вывести…
Длинной чередой тянулись безрадостные мысли. Впору выскочить из шалаша и бежать к Каргину, заявить во весь голос: нет на то моего согласия!
И вдруг он уловил еле слышный шелест у стенки шалаша. Сначала подумал, что это какая-то шальная мышь шурует, но откуда ей здесь взяться? Да и не так мышь скребется: она лапками листья чуть шевелит, а тут явно кто-то лаз делает. И Григорий еле слышно шепнул, почти прижавшись губами к стенке шалаша:
— Кто скребется? Отзовись!
— Это я, дядя Гриша.
Петро, черт конопатый!