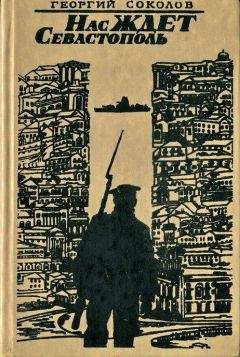Александр Гончар - Знаменосцы
XXVI
Все были охвачены мыслью о восставшей Праге.
Для Казакова чешская столица была не просто стратегическим пунктом, важным военным объектом или «узлом дорог». Прага для него была прежде всего гордым, непокорившимся городом. Казакову рисовались улицы в задымленных баррикадах, задыхающиеся, залитые кровью братья-повстанцы, женщины и дети с кошолками патронов… Как не спешить к ним на выручку, как не вцепиться в отступающих немцев, чтобы оттянуть их на себя от Праги? Казаков смотрел на это, как на свое личное дело, обычное и естественное. Точно так же он бросился бы на улице защищать ребенка от бешеной собаки или кинулся бы в реку спасать утопающего. Действия полка были направлены именно к этой цели, и поэтому приказ, отданный полку, казался Казакову его собственным приказом.
Если бы Казакова спросили, где кончаются его сугубо служебные, официальные дела и где начинаются дела личные, он только пожал бы плечами. В полку уже давно все стало его личным делом. Однополчане были его кровной родней, оружие — профессией, знамя — семейной святыней.
В бою Казакову приходилось действовать большей частью самостоятельно, и он, не колеблясь, принимал нужные решения на свой страх и риск. При этом его не пугало, что он может ошибиться, споткнуться, хотя за малейший промах ему пришлось бы расплачиваться первому и, может быть, даже собственной головой. Казаков беспощадно гнал из разведки людей, пытавшихся на каждый свой шаг получить санкцию начальства, чтобы потом, в случае неудачи, иметь оправдание. К таким типам Казаков относился с презрением. Сам он всегда был готов отвечать не только за себя, но и за действия всей части. Раньше, когда полк еще, бывало, терпел поражения, проигрывая отдельные бои, Казаков обвинял в этом в первую очередь себя и готов был нести на себе позор проигранного боя. Зато теперь он принимал приветствия гостеприимных чехов непосредственно в свой адрес, не перенося их на кого-нибудь старшего. Он был ухом и глазом полка и понимал это почти буквально.
Выходя в разведку, Казаков отрекался от всего, сразу возвышался над простыми смертными и «чувствовал себя богом». Боевое задание никогда не казалось ему тяжелым, скорее оно было для него благословением и пропуском в царство желанных подвигов. Он чувствовал, что ведет разведку не только от себя, но и от имени того нового мира, который послал его вперед, поддерживая своего отчаянного посланца во всех его мытарствах.
Может быть, поэтому Казакову все удавалось, всюду ему сопутствовала гвардейская удача.
Подчиняясь дисциплине, Казаков, конечно, выполнил бы любой приказ командира, даже тот, который был бы ему не по душе. Но тогда гнал ли бы он так немилосердно своего коня, как сейчас, мчась на Прагу? Несся бы он так нетерпеливо за врагом, по-ястребиному сидя в седле, подавшись всем корпусом вперед?
В этой войне все приказы, все задания, даже самые сложные, приходились Казакову по душе потому, что вели к единой ясной цели, к которой сам он неудержимо стремился.
Сейчас он также не жалел ни себя, ни коня, ни своих ребят. Призыв изнемогающей Праги неотступно звенел у него в ушах.
Ночью немцы неожиданно оказали упорное сопротивление. На нескольких километрах по фронту разгорелся тяжелый бой с участием танков и самоходок. Все полки дивизии вынуждены были развернуться в боевые порядки. Офицеры водили пехоту в неоднократные ночные атаки. И Казаков водил свою братву, выкрикивая в темноту ночи: «Даешь Злату Прагу!»
Лишь перед рассветом удалось сломить противника, и полки, зачехлив теплые стволы пушек, снова двинулись вперед.
Полк Самиева в колонне дивизии шел головным, и Казаков, вылетев на рассвете со своими разведчиками вперед по звонкой автостраде, надеялся, что окажется на ней первым. Но автострада была уже освоена: незадолго до того по ней пронеслись на Прагу «тридцатьчетверки». Казакова мучила ревность пехотинца, он ощущал себя чуть ли не обозником и незаслуженно упрекал коня, который никак не мог стать «тридцатьчетверкой». А танкисты, перехватив пальму первенства, оставили на автостраде, словно в упрек разведчикам, свежие следы своей работы: разбитую немецкую артиллерию, дотлевающие в кюветах машины, толпы фрицев, которых конвоиры-чехи гнали по обочинам автострады. Пленные брели молча, понуро, намокшие по пояс в росистой траве.
Казаков, завидуя танкистам, был, однако, искренне доволен тем, что они так быстро двигались вперед.
— Хоть и отбивают наш хлеб, зато помочь Праге успеют, — утешал он своих «волков». — Не дадут братанам задохнуться!..
— А может, там уже союзники? — высказал предположение Славик, самый молодой среди разведчиков — «хозяин» даже не называл его «волком», а только «волчонком».
— Могут, конечно, и они поспеть, если нажмут на все педали, — согласился толстошеий ефрейтор Павлюга. — Союзникам, кажется, ближе, чем нам…
Казаков покосился на Павлюгу своим зеленоватым глазом.
— На союзников надейся, а сам не плошай. Ясно?
— Ясно.
— Аллюр три креста!
Перебрасываясь на скаку словами, разведчики в то же время внимательно осматривали местность. Спереди им ничто не угрожало, там уже действовали танки. Опасность могла появиться только с флангов, слева или справа. Туда, конечно, танкисты не имели возможности сворачивать, оставляя эти просторы пехоте. Но и на флангах никакой видимой опасности не было.
Все больше светало. Тугой ветерок щекотал свежестью разгоряченные лица разведчиков. В предчувствии солнца заволновались в низинах белые туманы. Холодноватая даль еще мягко синела, но все вокруг уже прояснялось, приобретало естественные завершенные формы. Восток расцветал высоким венком рассвета. Вон далеко справа, между лесными массивами, загорелись на горных вершинах голые камни. Обновленные солнцем вершины сразу как бы приблизились к разведчикам. Вот и слева, перебегая в волнистых полях от села к селу, солнце окрасило маковки церквей, высокие деревья, пропеллеры ветродвигателей на пригорках. Раскинутые в равнинном раздолье вески и фермы забелели фасадами, радостно заиграли навстречу солнцу светлыми стеклами. А оно, могучее светило, все больше заполняло собой мир, все дальше бросало световые стрелы из-за кряжистых спин разведчиков, ударяя ими вверх и в стороны. Оно опережало полки, выставляя на их пути свои утренние румяные вехи. Разведчики шли на галопе по этим вехам солнца — вперед, вперед…
Изредка оглядываясь, разведчики видели полк. Он двигался колонной, подминая под себя автостраду, которая, словно на волнах, то прогибалась в долинах, то поднималась на невысоких пригорках. На расстоянии полк казался серым, одноцветным: серые люди, серые лошади, серые пушки… Едва заметное, как тонкая антенна, древко знамени все время покачивалось над головами всадников. Знамя, как всегда на марше, было в чехле.
Справа над автострадой нависали леса, насквозь промытые росой, пропахшие свежей зеленью. Спускаясь с далеких гор синими оползнями, а ближе — крутыми зелеными обвалами, они дружно останавливались у дороги, как бы советуясь: перешагнуть ленту автострады и спуститься в поле или остаться на месте.
Пока полковая колонна была на виду у разведчиков, они скакали уверенно и беззаботно. Но вот уже четверть часа, как полк, скрывшись за поворотом леса, не показывался. Казаков обладал острым чувством расстояния, и по его расчетам полк, идя заданным темпом, уже должен был выйти из лесу, огибая его. Но блестящая изогнутая дуга автострады оставалась безлюдной.
Казаков, настороженно съежившись в своем седле, приказал товарищам пустить коней шагом. В лесах, уже залитых солнцем, стояла зеленая тишина. Она не нравилась Казакову, он чувствовал в ней что-то коварное. Как на грех, никто не попадался на пути — ни военные, ни штатские. Далеко слева вставал на горизонте легкий белый дым — горели какие-то скирды. Прислушавшись, Казаков отчетливо, уловил редкие постукивания пулеметов, тонко долетавшие издалека. Лошади ступали медленно, разведчики с возрастающей тревогой поглядывали назад.
— Что это значит? — первый не выдержал Славик, раскрасневшийся от скачки. — Почему их до сих пор не видно?
Павлюга поднялся на стременах и, оглянувшись, подтвердил:
— Не видно.
— Может, «привалились», — мрачно предположил Архангельский, широкоплечий, коренастый, издали в седле напоминавший беркута. — А, может быть, и в самом деле что-нибудь случилось?
Товарищи подозрительно смотрели в зеленые глубины незнакомых лесов.
Проехали с километр, до следующего поворота, и Казаков дал, наконец, команду остановиться.
— Подождем, — пояснил он, сдерживая раздражение. Такие остановки его всегда нервировали.
Соскочили с лошадей, разминая затекшие ноги.
— Ручаюсь головой, что с ними ничего плохого не случилось, — уверял Павка Македон, весельчак и красавец, задушевный друг Казакова. — Вы же знаете, как мое сердце в таких случаях сигнализирует! Безошибочно!