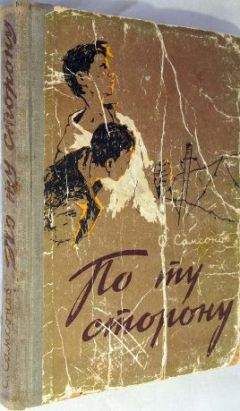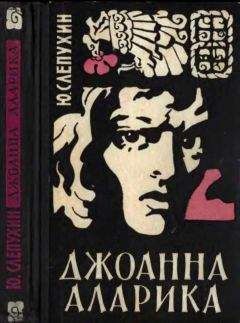Юрий Слепухин - Тьма в полдень
– Не понимаю и не особенно хочу понимать, – сказала Таня. – Вы не обижайтесь, пожалуйста, но я терпеть не могу говорить на такие темы...
От нее ускользал смысл туманных рассуждений Венка, может быть потому, что голова после выпитого была уже не очень ясной. Но что-то в его словах ей не понравилось. Дело было не в том, что с нею сейчас разговаривал враг, убежденный нацист; к этому она привыкла, и их обычная фразеология уже не возмущала ее. Но рассуждения зондерфюрера были именно необычными, она никогда еще не слышала от немцев ничего подобного, и хотя он ничего особенно зловредного, казалось бы, не сказал, было в его рассуждениях о двух системах что-то если не пугающее, то настораживающее.
– О, пожалуйста, – сказал фон Венк. – Я знаю, девушки не очень любят такие темы, но вы мне казались немножко исключением. Татьяна Викторовна, а ведь вам плохо пришлось бы, если бы красные вернулись в этот город...
С полминуты, а то и больше Таня смотрела на него широко раскрытыми глазами, чувствуя, как улетучивается и рассеивается хмельной туман.
– Почему вы это говорите? – пробормотала она – Разве дела на фронте идут так...
Она чуть не сказала «хорошо», но вовремя запнулась.
Барон, допивая рюмку, отрицательно помотал в воздухе сигаретой, зажатой между средним и указательным пальцами.
– Нет-нет, – сказал он, – так плохо дела не идут, я ставлю этот вопрос просто... гипотетически. Германский солдат обычно твердо стоит там, куда пришел. Но если предположить, а? Вам плохо пришлось бы. Еще бы! Сотрудничество с врагом, – за это не гладят по головушке. Знаете, какие ужасы имели место прошлой зимой в тех городах под Москвой, что были захвачены красными? О-о, мне рассказывали. Мне говорили про семью одного врача, который возглавил городскую управу в... Волоколамске, если не ошибаюсь. Может быть, это имело место в другом городе, я не уверен. Их буквально растерзали – всех, всю семью. В первый же час, как только по улице проехался первый танк с красной звездой. Таких трагедий было много; к сожалению, не всюду удалось своевременно провести эвакуацию цивильного населения...
– Валентин Карлович, – сказала Таня, – у вас нет других тем для разговора?..
– Хорошо, хорошо, простите. Может быть, немного танцев?
– Спасибо, не хочется. Я хотела спросить – вы читали Достоевского?
– О да, и с большим наслаждением, – закивал фон Венк.
– Вы не помните, откуда это выражение: «...если уж лететь, так вверх пятами»?
– Ну как же, это... дай Бог памяти... это из «Карамазовых», да, это говорит Иван в том знаменитом разговоре с Алешей – ну, помните, где насчет слезинки...
– Нет, я же не читала совсем, – созналась Таня.
– Ну да, Достоевский у вас не поощряется, я знаю. Эти слова можно разглядывать как формулу русского максимализма. Русские суть максималисты по натуре, они думают о великом и не помнят про мелочи, строят дворец, забывая о кирпичах. Они хотят раздувать мировой пожар и не умеют организовать производство зажигалок. Я видел, пленные красноармейцы добывают огонь с помощью техники каменного века – камешек, и кусочек железа, и фитиль. Я бы не удивился, увидев у них дощечки – знаете, как в Полинезии?
– Знаю, знаю, – вздохнула Таня. – Идемте-ка отсюда, Валентин Карлович, что-то у нас сегодня не получается мирного разговора, а спорить мне не хочется. Пойдемте, правда, уже поздно.
– Как вам угодно, – тотчас же согласился фон Венк. – А может быть, вы удостоите посещением мое скромное жилище? На полчасика. У меня есть настоящий кофе в зернах. Кроме того, мог бы показать вам свои новые приобретения. Я ведь теперь собираю иконы, я вам не говорил? Что делать – каждый зверок...
– ...Имеет свое маленькое удовольствие, я знаю. Нет, благодарю, ваше скромное жилище я посещением не удостою. Вы просто отвезите меня домой, хорошо?
– Как вам угодно, – повторил фон Венк.
По дороге домой она приняла решение поговорить с Болховитиновым.
Он пришел в воскресенье после обеда, как обычно. Было холодно в этот день, выпал первый настоящий снег, начиналось даже что-то вроде метели. Таня, отогнув краешек занавески, со страхом и почти ненавистью следила, как он идет по дорожке от калитки – согнувшись от ветра, держа руки в карманах широкого мохнатого пальто, упрятав нос в свободно намотанный шарф. А из-под шляпы видны черные бархатные наушники на пружинке. Марсианин, настоящий марсианин!
– Я не помешал? – спросил он по обыкновению робко, когда она распахнула дверь.
– Как вы думаете, на такой вопрос когда-нибудь отвечают «да»? Входите, пожалуйста.
Болховитинов растерялся и нерешительно переступил порог.
– Но почему же... Я часто говорил своим приятелям именно это, когда они являлись ко мне... ну, скажем, с выпивкой в предэкзаменационную неделю. Я имею в виду студенческие годы...
– Я поняла, что вы имеете в виду, – сухо сказала Таня. – Обедать будете?
– Благодарю вас, я уже откушал, – сказал Болховитинов, грея руки о кафельное зеркало печи. – Холодно сегодня, не правда ли?
– Господи, Кирилл Андреевич, почему вы не следите за своим языком? Не обижайтесь, но вы сами просили поправлять вас, в случае чего. Ну кто так говорит: «откушал»? Это, может, при царе Горохе так говорили! «Господа изволили откушать!»
– Да-да, это неправильно, я знаю... Я не обижен, напротив, мне очень приятно, что вы меня поправляете. А это «откушать», – он засмеялся, – это у меня еще от нянюшки, честное слово!
– От нянюшки? – изумленно переспросила Таня. Ей показалось очень странным, что такой взрослый солидный человек говорит о своей нянюшке.
– Ну да, у нас была старая русская нянюшка, царствие ей небесное, совершенно такая, знаете ли, шмелевская... Вы Шмелева читали – «Няня из Москвы»? Впрочем, откуда же. Это очаровательная повесть, написана от лица старой такой московской нянюшки, которая после революции вместе со своими господами попадает в Крым, а потом за границу. Ну, Шмелев большой был писатель – он ведь до революции еще начинал. «Человек из ресторана»...
– Вот это мне что-то напоминает, – сказала Таня, – может быть, даже я ее и читала. В эмиграции много хороших писателей?
– Да как вам сказать... В сущности, остались только Бунин и Алданов; Мережковский недавно умер...
Войдя в кабинет, Болховитинов стал разглядывать корешки в книжных шкафах. Таня устроилась на диване в своей излюбленной позе, с поджатыми ногами.
– Сегодня очень холодно, – сказал он.
– Вы это уже говорили, – заметила Таня, тут же проникаясь к себе еще большим отвращением. Ну чем он виноват, этот несчастный, свалившийся ей на голову марсианин, за что она все время его кусает? Шавка, просто шавка. Она незаметно ущипнула себя, очень больно, и спросила с любезной улыбкой: – Этот, что умер, был хороший писатель?
– Мережковский? М-м, как сказать... – Болховитинов повернул кресло к Тане и сел, сцепив пальцы на коленях. – Я не особенно его люблю, он мистик и несколько навязчив в своих идеях... К тому же я их, честно говоря, попросту не понимаю. Нет, это, конечно, не Бунин и даже не Алданов. Алданов, положим, тоже хорош... Почитаешь его, а потом тянет повеситься...
– Такой мрачный?
– Знаете, он не то чтобы мрачный, а безнадежный какой-то... Не видит вокруг себя ничего светлого, история для него лишь доказательство человеческой глупости и жестокости... Кстати, безнадежность, как мне кажется, стала неотъемлемым свойством эмигрантской литературы. Это и в прозе, и в стихах... Вот, например, Владимир Смоленский: «Ты уходишь от меня, уходишь, ни окликнуть, ни остановить. И не разлюбить, и не убить. Ты уходишь от меня, уходишь. Удаляющиеся шаги, звездный свет за узкими плечами, – слушай, слушай в тишине, ночами, удаляющиеся шаги». Что скажете? Весело?
– Бр-р-р, – поежилась Таня. – Лучше уж не читайте мне эмигрантских стихов, если они все такие.
– Есть и получше! «Нет, ничего не останется нам – холод, пустые пространства да ветер. Ветер, бегущий по мертвым мирам, прах разметающий тысячелетий...»
– Слушайте, идите вы с вашим прахом, в самом деле! Вы хотите, чтобы, меня тоже потянуло вешаться?
– Простите, Татьяна Викторовна, больше не буду. Я только хотел, чтобы вы поняли, что заставило меня стать коллаборантом. Я не мог больше переносить бессмысленности эмигрантского существования, мне нужно было вырваться. Впрочем, вырваться стремились все... Некоторые из соотечественников женились на француженках, на чешках, врастали в иностранное общество и постепенно денационализировались... А я так не мог. К счастью или к несчастью, меня воспитали слишком русским, и Россия была для меня всем – еще с кадетского корпуса. Поэтому, когда мне представилась возможность поехать сюда в качестве служащего немецкой фирмы, я даже не раздумывал. Важно, что я ехал на родину. Я знал, что это не лучший путь... Я, кстати, никогда не сомневался в том, что рано или поздно Германия будет разбита... Но тут ведь вопрос был не в правильно сделанной ставке и не в выгодном помещении капитала. Разумно это было или неразумно, иначе я не мог. Отказаться от возможности побывать на родине – это было свыше моих сил...