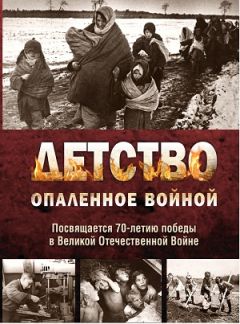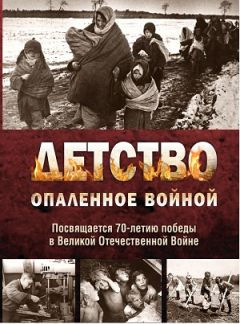Петр Лебеденко - Холодный туман
— Выруливаем, «ласточка», — услышал в шлемофоне Шустиков.
«Ласточка» — это позывной Шустикова: и на левом, и на правом борту его истребителя искусно нарисованы ласточки, острыми крыльями рассекающие, словно бы тугой, упругий воздух. Рисовал этих ласточек сам Михеич, а он был неплохим художником. Ходили к нему его друзья-механики, просили: «Михеич, нарисуй или орленка, или синицу, на худой конец — журавля… За нами не пропадет: мол, двести, так двести, а то и все триста нацедим и отфильтруем на противогазе, чистенький будет напиточек, как слезинка». «Нет, — твердо отвечал Михеич, — нечего птичник в эскадрилье разводить…»
Они все были настроены на одну волну. В шлемофонах то и дело слышалось: «Четверочка, подбери высотенку…», «Слева — три „лаптя“. Атакуем?», «Следить только за „горбатенькими“[3]», «Строй не ломать…», «„Маленькие“[4], „маленькие“, идете хорошо, идете хорошо, спасибо…»
Денисио поминутно окликал своего ведомого Шустикова: «„Ласточка“, „ласточка“ как ты там?» Денисио, — конечно, предполагал, что их наверняка ожидает бой, во время которого они могут понести потери, но — как ни странно, сейчас его больше всего беспокоила и тревожила судьба Шустикова. «Потери вообще» — это неизбежное зло — сейчас для Денисио были каким-то отвлеченным понятием. «Откуда кто» из них может знать, кому что уготовано — через пять, десять, или двадцать минут? Кто-то сейчас мурлычет себе под нос какую-нибудь песенку, кто-то на новом месте уже успел познакомиться с местной дивчиной и мысленно себе представляет вечернюю с ней встречу, кто-то думает о том, что уже целых две недели никак не соберется написать письмо матери, которая, конечно же, каждый день выходит встречать почтальоншу, но вот сегодня, как только вернется из этого боевого задания, обязательно ей напишет, — да, мысли у всех, пока не начался бой, чем-то заняты, заняты чем угодно, только не предстоящим боем, потому что никто не знает как он начнется, этот бой, как он будет протекать, да и зачел о нам думать, вот начнется он, тогда и увидим как и что…
Это — вообще. Это — все. Но не Шустиков. У Шустикова сейчас все по-другому. Он чувствует себя обреченным — самая пакостная штука на войне. Что может сделать человек, который знает: его сегодня убьют? Когда Шустиков в первый раз сказал: «Меня скоро убьют» — глаза у него были похожими на глаза смертника. Денисио доводилось видеть такие глаза. Как-то, возвращаясь с боевого задания, он обнаружил, что ему не хватит бензина дотянуть до своего аэродрома. Поэтому, заранее выбрав удобную площадку рядом с какой-то стрелковой нашей частью, он посадил машину, попросил двух бойцов посторожить ее, а сам уже отправился было на КП этой части, чтобы связаться со своими, как вдруг увидел: трое солдат с автоматами в руках ведут человека в гимнастерке без пояса, с расстегнутым воротом, босого и со связанными за спиной руками. А там, куда вели этого человека, было выстроено человек сто пятьдесят красноармейцев — выстроено четырехугольником, в середине которого стояло несколько офицеров.
Денисио спросил у проходившего мимо младшего лейтенанта:
— Что-то случилось?
Тот ответил:
— Случилось. — Кивнул головой в сторону человека со связанными руками. — Приговорен к расстрелу за предательство. Вон там его сейчас и шлепнут.
Никогда еще Денисио не приходилось присутствовать на подобных актах возмездия, он даже не представлял себе, как можно выстрелить в человека, который стоит перед тобой совершенно беззащитный, стоит и ждет, когда у него отнимут жизнь. Все это казалось Денисио противоестественным, и, хотя он отлично понимал, что с закоренелыми преступниками, с предателями поступать иначе нельзя — о-т-н-и-м-а-т-ь у беззащитного человека жизнь, считал он, бесчеловечно.
В тот раз, влекомый любопытством, преодолевая в себе ощущение какого-то отвращения к сцене, которая должна была сейчас разыграться, Денисио направился в сторону выстроенных солдат. Никто его не задерживал, и через две-три минуты он оказался почти напротив стоявших в середине каре офицеров. И тут же увидел человека, приговоренного к смерти. Человек этот стоял лицом к нему, и первое, на что невольно обратил внимание Денисио, были глаза смертника. Человек еще был жив, он обеими ногами стоял на земле, чувствуя, наверно, ее тепло, иногда он слегка поводил плечами, стараясь, видимо, утишить боль в связанных руках, короче говоря, жизнь во всех ее проявлениях еще продолжалась, а глаза были мертвыми. Ни одной в них искорки, ни одной промелькнувшей тени, ни страха, ни желания, ни надежды.
Денисио почему-то подумал: «Скажи сейчас этому человеку, что смертный приговор отменяется и ему даруется жизнь и свобода, он, наверное, и не обрадовался бы, остался бы безучастным, потому что в нем уже умерла его мысль, окаменела его душа. Недаром же говорят, что глаза — это зеркало души человека».
Перед тем, как в приговоренного выстрелили, он, как показалось Денисио, взглянул на него. Взглянул этими самыми мертвыми главами — и Денисио вдруг ощутил в своей душе холод, словно к ней на миг прорвался леденящий ветер. Это не было ни жалостью, ни состраданием, ни удовлетворением оттого, что праведный суд свершился. А что это было — Денисио так до конца и не понял…
Почему он вспомнил сейчас тот давно, казалось бы, забытый эпизод? Ведь никакого особенного следа в жизни Денисио он не оставил — чужой человек, чужая жизнь, чужая смерть… И не в том ли заключается ответ на этот вопрос, что глаза т-о-г-о человека и глаза летчика Шустикова, когда он говорил: «Меня скоро убьют», так поразительно были похожи?
Правда, Денисио тут же постарался отринуть от себя эту мысль: что общего может быть между т-е-м человеком и Шустиковым? Т-о-т человек знал, что делает последние шаги по земле, Шустиков же — лишь предполагает, что его могут убить. У того человека не было никакой надежды, потому он и умер раньше, чем его расстреляли, у Шустикова же… Шустиков может перебороть в себе неведомо откуда пришедшие к нему сомнения, ему для это нужно только время. Время, и еще хотя бы одна победа в бою, которая укрепит его волю.
Денисио даже оживился, когда так подумал. Конечно же, ему нужна еще хотя бы одна победа, но не когда-нибудь, а сейчас, вот в этом, сегодняшнем бою, которого не может не быть…
— «Ласточка, Ласточка», — позвал Денисио. — Как ты там?
— Нормально, — ответил Шустиков. — Хорошо идут наши «горбатенькие», сверху любо на них поглядеть.
— Минут через шесть-семь покажется «железка». А там — сразу и железнодорожный узел. Наверняка нас там встретят…
— Не хлебом-солью, — добавил Шустиков. — Да и мы им угощение не мармеладное везем. Правильно я говорю, товарищ капитан?
— Не мармеладное, — согласился Денисио.
И — радостно улыбнулся. Никакой паскудной тоски в голосе Шустикова нет и в помине. Шустиков такой же, каким был всегда. Значит, выбросил из головы всю ту дребедень, которая на время его сломила. Вернее, попыталась сломить, но не сломила. — Шустиков оказался сильнее.
Внизу железнодорожное полотно делало своеобразную петлю, словно бы кем-то наброшенную на небольшой городок, на краю которого расположилась довольно крупная станция с расползающимися от нее ветками блестевших рельс, сверху похожими на лапы огромного паука. На этих ветках, куда ни глянь — длинные составы вагонов, платформ, выбрасывающих из труб клубы дыма паровозов, вселенская суета немецких солдат, разгружающих танки, тягачи, бронемашины, всю ту грохочущую, лязгающую технику, которая тут же, сходу, растекается по большакам, направляясь к линии фронта.
И штурмовики, и прикрывающие их истребители уже приближались к железнодорожному узлу, но пока не было ни одного залпа эрликонов, не было видно ни одной трассы крупнокалиберного пулемета, и можно было подумать, что немцы или забыли о такой простой вещи, как защита своего важного объекта от удара с воздуха, или настолько обнаглели, что не считают необходимым такую оборону организовать.
Однако никого из летчиков эта кажущаяся беспечность немцев ни на минуту не обманывала. Трудно выразить словами то ощущение, которое летчик испытывает в подобной ситуации. Ничего еще не видя, он чувствует, как затаилась земля, затаилась так, как затаивается хищный зверь, готовый броситься на свою жертву: он уже когти почти выпустил, и шерсть его встала дыбом, и в глазах у него одна за другой мелькают сотни молний, но — до самого последнего момента, до рокового прыжка он не подает никаких признаков жизни.
Да, земля тоже бывает похожей на затаившегося хищного зверя. Денисио познал это еще там, в Испании, где он впервые столкнулся с коварством фашистов. Тактику они перенесли и сюда и долгое время ее не меняли, надеясь, что наши летчики ее не сразу раскусят.
Шустиков, не отрывая взгляда от машины Денисио, в то же время не упускал из виду и землю. Он тоже ждал, что земля вот-вот заговорит. Шустиков, как и другие летчики, чувствовал: она, земля, уже ощетинилась, уже до предела напряглась, сейчас нужна хотя бы крохотная искорка — и все там взорвется, все сразу напомнит о войне и о том, что ты в своей маленькой, с земли похожей на скорлупку, машине фактически ничем не защищен; один снаряд эрликона, одна короткая пулеметная трасса, даже один удачный винтовочный выстрел могут прекратить твое бренное существование. Ну, что ты против всего этого сделаешь?