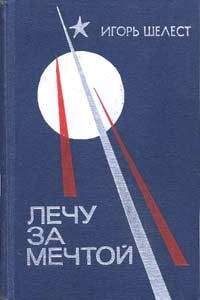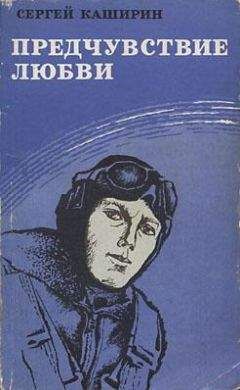Игорь Шелест - Опытный аэродром: Волшебство моего ремесла.
Сергей смотрел на мать, все ещё будто бы не вполне узнавая. Она же, немного помедлив, вздохнула:
— Вот так и живу… Как велит поэт и понимая теперь, что в основе нашего с тобой труда есть единая двигательная сила — веление вечности.
У него вытянулось лицо:
— Веление вечности!.. Это прекрасно! Все в нём: и любовь, и жажда открытий, и радость труда!.. Мам, мы с тобой сегодня на одной волне: направляясь сюда, я попробовал сопоставить твой труд со своим и нашёл в них некую эмоциональную общность. В самом деле, и мне, и тебе свойственны и муки творчества, и тяготы преодоления, и страхи от сомнений, и, наконец, радости, может быть, даже восторги, от удач… Но ты меня натолкнула на мысль, что все это в той или другой мере присуще всякому добросовестно исполняемому человеком труду… А если человек ещё и любит свой труд… Упорен в своём труде…
— …значит, он талантлив! — весело подхватила Антонина Алексеевна, — значит, он сумел открыть в себе присущее ему веление вечности!
— Мам… Ты прелесть!.. Дай обнять тебя!
— Ой, сын, ты мне напомнил… На днях чуть не умерла от страха в «Богеме»!.. Нет, не «понарошку», как ты говорил, а по-настоящему, и не в четвёртом акте, как положено, а в первом…
Представь себе: поем с Рудольфом свой лирический дуэт и вижу — о, ужас! — к нам из-за кулис направляется кошка!.. Бог знает, как она оказалась в театре!.. Хоть сцена и была затемнена, а в зале послышалось зловещее шевеление. Я помертвела: ещё какие-то мгновения, и публика разразится смехом, и ничто уж тогда не спасёт спектакль!.. А кошка направляется ко мне, вот она уже рядом, трётся о мои ноги… Миг до катастрофы!.. И тут меня осенило. Спокойно, будто ждала её, чтобы в смущении не Рудольфу, а ей выразить свою нежность, беру животинку на руки, начинаю поглаживать, и, видя, как дирижёр отправляет в рот пилюлю, пропеваю свои реплики: «Да где же ключ?.. Ну нашли вы?.. Что же делать?..» В это время мой партнёр, одолев секундное замешательство, приподнимается с пола и, уже весело глядя то на меня, то на кошку, запевает знаменитую арию наскоро придуманными к моменту словами: «Вы вся в ознобе, друг мой; ведь она пришла согреть вас; холод ужасный, мы ищем ключ напрасно…» Скрипки ему вторят, маэстро, держась рукой за сердце, благодарно склоняет голову, вдохновляет певца, и он, возвращаясь в русло привычных слов арии, поёт теперь смело, даже с какой-то отчаянно-насмешливой дерзостью: «Ещё немножко, и взглянет к нам в окошко луна-красавица и нас обласкает, и мне не помешает рассказать вам в двух словах, кто я, кто я, чем живу и чем я занят…» У меня подступает ком к горлу, в глазах радостные слезы. Голос партнёра звучит чарующе, и вот все мы, и публика, и я, и даже мурлычущая на руках кошка готовы верить Рудольфу, что он хоть и бедный поэт, а миллионер душою!.. Прижимаю кошку к щекам, вытираю о неё слезы. Публика, похоже, прекратила дышать. Кто-то там, поди, сбит с толку: «Неужто так и задумано было с кошкой?..» А мы распеваем с нарастающим вдохновением, и голоса наши будто звенят над миром. От неизбывного счастья чувствую, как пылают щеки. Поверь, родной, когда мы нескончаемо высоким «до» завершили наше «трио» — зверушку я так и продержала на руках, — публика одарила нас такими овациями, которых театр давно не помнит… Множество раз нас вызывали, и все были счастливы… А ведь был момент — я чуть не умерла!
— Мам… Мама… — сердце Сергея переполнила нежность, — ты, должно быть, не понимаешь…
Она замахала руками.
Он взял её руки, стиснул их вместе:
— Ах, мама… Я всю жизнь гордился отцом, и вот понял, что могу гордиться и тобой… Нет, ты погоди… И вот гляжу на тебя как на волшебницу, подарившую успех спектаклю, публике — восторженное состояние вдохновенной радости… А ведь волшебницей была ты всегда!
— Спасибо, сын, — сказала она просто. Сергей смотрел на мать с теплотой обожания, и она представлялась ему в его воображении в облике многих её замечательных героинь, и каждая из них — и Лиза, и Татьяна, и Дездемона, и Недда, и Тоска, и вот Микаэла, — протягивала ему руки, улыбаясь: «Дурашка, а ты и не знал, что я чародейка, умеющая дарить людям незабываемую радость!»
Антонина Алексеевна вдруг встрепенулась:
— Да… Но что же у тебя, сын?.. Ты мне что-то недоговариваешь…
— Нет, ма, у меня все хорошо.
— Правда?
— Ей-богу!
Она понизила голос:
— А ведь вижу: тебе предстоят какие-то новые испытания!
— Ты волшебница, и этим все сказано.
— Очень сложные?
— Не очень… Не сложней, чем для тебя дебют в новой партии, когда ты уверенно знаешь свою роль.
Антонина Алексеевна задумалась, стараясь что-то вспомнить, потом, просветлев, вскинула голову:
То же бешенство риска,
Та же радость и боль
Слили роль и артистку,
И артистку и роль.
И, с острой тревогой глядя ему в глаза, спросила:
— Сын, разве эти строки обращены не к нам с тобой?!
Сколько надо отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,
Как играет река,
Как играют алмазы,
Как играет вино,
Как играть без отказа
Иногда суждено…
Он так и не отпустил её рук. Глядя на его вихрастую шевелюру, высвободила руку и погладила его по голове.
— Сын, тебе пора стричься…
— Да, мам… Когда буду чуть посвободней. Она улыбнулась.
— Нет, правда, обещаю, мам.
— Ну а как себя чувствует друг твой, Жос?.. Ты был у него?
— Ему лучше, он передвигается на костылях!.. Пел нам песни.
— И эта девочка была там?.. Его не забывает?
— Что ты!.. Надя — чудо!
Антонина Алексеевна покачала головой, и Сергей понял её взгляд: «Я ведь знаю, и ты влюблён в неё!..» Он опустил глаза.
Она задумалась и долго смотрела на него, прежде чем спросить:
— Ты побудешь до конца третьего акта, когда я освобожусь?
— Нет, прости, побегу. Завтра надо быть пораньше на работе… После совета сразу улетаем на юг.
— Ну тогда ступай. И мне надо собраться перед третьим актом… Сразу же позвони… Ты знаешь, как это для меня важно.
* * *Поставив с вечера будильник на 4.45, Майков проснулся по обыкновению за несколько минут до звонка, нажал кнопку и уставился в окно. По сиреневому небосводу будто кто мазнул темно-серой клеевой краской, но ведущий инженер отлично разбирался в оптических эффектах «небесной канцелярии» и понял, что день обещает быть ясным, а сейчас высокая облачность, слоистая, с разрывами. Они условились с Крымовым ехать на аэродром вместе.
Пока Юрий Антонович делал гимнастику, брился, тёмные мазки на небе все более светлели. Потом в них ударили снизу оранжевые лучи ещё невидимого за горизонтом солнца, и небо как бы наполнилось, заиграв красками.
* * *Крымов спустился с крыльца коттеджа точно в шесть. Открывая дверцу машины, сказал: «Доброе утро!.. Как спали, Юрий Антонович?» И, услышав ответ, не проронил больше ни слова. Майков тоже не счёл нужным заговаривать с Главным: погода явно благоприятствовала, самолёт полностью отлажен — это показали рулёжки, скоростные пробежки и небольшой подлёт, план первого вылета вчера на методическом совете детально проработан и утверждён. Теперь осталось собраться с духом и лететь… И потому, что всё было решено, всё ясно, абсолютно готово, ни Крымову, ни Майкову разговаривать не хотелось. Вот и ехали молча, убеждая себя, что всё будет как надо. А мыслишка, смутная и настырная, нет-нет и теребила сознание: «А ну-ка что упустили?!»
«Икс» выкатили на рулежную дорожку и сняли с двигателей чехлы. Как ни привык Майков к самолёту, сегодня он показался ему ещё пластичней, совершенней в своих динамических очертаниях. «Поджарый», будто бы втянутый в центральную часть крыла «живот»; приспущенный, как у меч-рыбы, иглообразный нос; в хвостовой части, по бокам двигателей, клиновидные плоскости горизонтальных рулей, а вверху — скошенные назад кили.
Майков по-хозяйски придирчиво осмотрел острые, как ножи, кромки крыльев и рулей. На утреннем солнце «Икс» был очень красив. В его окраске преобладал голубой цвет, по фюзеляжу шли светло-серые, переходящие местами в белизну клубления. Размывая внешние контуры, замысловатая окраска скрадывала размеры «Икса», отчего самолёт казался легче, воздушней. Занимаясь осмотром, Майков поймал себя на том, что опять — в который раз! — любуется самолётом, его сильно развитой центральной частью крыла и тонкими, изящными консолями. Вспомнился почему-то «сумасшедший» изобретатель Миша Кузаков — в юности Майков, занимаясь планёрным спортом, брал у него первые уроки аэродинамики в аэроклубе. В то время Миша Кузаков носился с идеей «широкоразвитого несущего центроплана и тонких, лучшим образом обтекаемых консолей». Однако в те времена в институте признали совершенно несостоятельным его предложение, а самого Мишу в кулуарах осмеяли как недоучку и фантазёра. И вот теперь, когда «фантазёра» уже нет, тот же институт в лице нового поколения специалистов на основе новейших исследований, настоятельно порекомендовал Крымову при создании «Икса» применить крыло с сильно развитым наплывом в центральной части, переходящим в тонкие консоли.