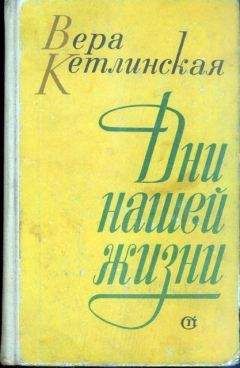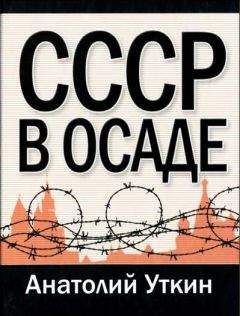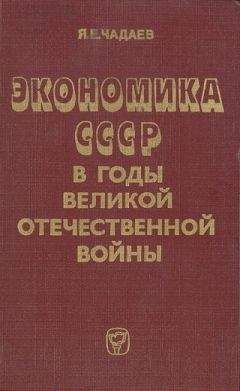Вера Кетлинская - В осаде
— Но что? Что? Чего я жду?
Напевая и улыбаясь, она отстранила трезвые вопросы. Мало ли что может быть, ждать надо всего, самого хорошего, обязательно хорошего… Она натянула лучшие, тонкие чулки, надела лучшие туфли и остановилась перед платяным шкафом, раздумывая, что надеть. У неё было немного платьев, и только одно, сшитое перед войною, было новым. Тёмно-вишнёвое, гладкое, без всякой отделки, оно на редкость шло ей и очень нравилось Борису Трубникову. «Пожалуйста, надевай его только для меня..» — просил он.
Расчёсывая и укладывая на голове волосы, Мария испытующе посматривала на своё отражение в зеркале, не совсем доверяя своему насмешливо-спокойному настроению. «Так, значит, наденешь?» — и громко ответила:
— А вот и надену. Почему бы не надеть?
Платье, недавно безукоризненно облегавшее фигуру, оказалось теперь широким. Задорно свистнув, Мария повертелась перед зеркалом, изучая себя, разыскала чёрный кушак и стянула им платье. Так ей показалось ещё лучше.
— Смотри, мама, — сказала она, выбежав в коридор, — я опять тоненькая, какою была до Андрюшки.
Митя выскочил на звук её голоса.
— Боже мой… — пробормотал он. — Какая вы сегодня необыкновенная!
Девушки, увидев Марию, ахнули и побежали переодеться.
В столовой горела одна лампа, прикрытая поверх абажура тёмным платком. Мария плотно завесила окно, зажгла верхний свет, постелила лучшую скатерть.
— Праздник — так праздник! — говорила она, радуясь тому, что митин влюблённый взгляд неотступно следует за нею.
Мироша, устыдившись своей скупости, вытащила из каких-то тайников и мелко накрошила на тарелку последнюю луковицу.
— Прошу всех к столу! — провозгласила Мария и наполнила рюмки. — За то, — сказала она медленно, прикрыв блестящие глаза, — за то, чтобы победила жизнь!
Мика азартно поддержал её тост, все чокались. А Мария смотрела перед собою блестящими глазами и видела то большое и прекрасное, ни с чем несравнимое, что вечно манит своей неизбывной новизною, — то, что коротко определяется словом жизнь. Куда поведёт она? Чем подарит?..
Когда раздался звонок, она встала стремительно, как будто знала, одна из всех, кто стоит у порога. Сдерживая шаг (не перед тем, кто — пришёл, а перед теми, кто смотрел ей вслед), она вышла из комнаты, а там побежала по коридору, стараясь убедить себя, что это невозможно, и всё-таки веря предчувствию. Остановилась v двери и тихо спросила:
— Кто?
— Впустите, это я, — так же тихо ответил Каменский.
Она медлила, возясь с запорами. Значит, это правда, И от этого никуда не уйдёшь, — говорила она себе, сжимая в пальцах задвижку и медля отодвигать её, — значит, я его ждала. .
— Вы не хотите впустить меня, Марина? Я убежал к вам, как мальчишка. .
Она дёрнула задвижку и распахнула дверь. Губы её пересохли, будто на тёплом ветру.
— Я знала, что это вы.
Он схватил её руки в свои, поднёс их к щекам и стал тереться щеками о её ладони, как большой ребёнок, истомившийся без ласки.
— Спасибо, что вы мне сказали об этом…
— Это же так хорошо — ждать и дождаться.
— А мне вдруг пришло в голову: что, если вы больше не придёте — теперь, когда Митю выписали!
Она засмеялась:
— Ну, знаете, это даже Мите не пришло бы в голову!
— Ради бога, Марина, не будьте рассудительной и не смейтесь. Если бы вы знали, как ловко я сбежал сейчас из госпиталя и как я нашёл вас, не зная ничего, кроме улицы и того, что дом шестиэтажный… Какая-то девица с противогазом хотела задержать меня, приняв за ракетчика. А у меня документы капитана, шинель лейтенанта… Знаете, что я ей сказал?
— Нет.
— Я сказал, что спешу к женщине, в которую влюблён без памяти, и если она понимает, что такое любовь, она меня отпустит.
— Отпустила?
— Конечно.
— Она плохо выполняет свои обязанности.
— Марина, она их выполняет великолепно! Бдительность ужасна без чуткости. Так же, как чуткость без бдительности.
Они стояли у входной двери и болтали, глядя друг на друга. Он всё ещё держал её руки в своих.
Из столовой выглянула Анна Константиновна, за нею высунулся Митя, закричал:
— Леонид Иванович!
И устремился было к Каменскому, но остановился и отвёл потускневший взгляд, — слишком явной была досада Каменского и Марии на то, что им помешали.
Каменский сам пошёл навстречу Мите и крепко обнял его, подёргав при этом за цветистый роскошно повязанный галстук:
— Честное слово, друг, я чертовски рад видеть тебя этаким штатским франтом!
И Митя расцвёл, ещё раз примирившись с неизбежным, потому что он тоже был рад капитану.
— Нет, нет, не знакомьте, я сам! — Каменский подошёл к Анне Константиновне и поцеловал её руки: — За вашу дочь. И за Стасика Кочаряна.
Затем он шагнул в столовую навстречу любопытным взглядам. Он знал, чем вызвано общее любопытство, и не смущался, а радовался этому и старался понравиться всем — всем, кто окружает Марию, всем, кто может потом сказать о нём доброе или худое слово. Он подошёл к Мироше и ей тоже почтительно поцеловал руку, отчего Мироша вся зарделась.
— Вы — Мироша, я знаю, — сказал он. И весело обернулся к девушкам. — Вы — Лиза, а вы — Соня. А это, судя по роду оружия, Мика Вихров. Точно?
— Точно, товарищ капитан, — ответил Мика, очень довольный тем, что его заочно причислили к семье.
— А где самый младший и самый главный член семьи?
Андрюша спал. Каменский огорчился и упросил Марию показать ему мальчика.
Стоя поодаль, она смотрела, как склонился над кроваткой Каменский, как он долго и неподвижно вглядывался в спящего ребёнка и затем, ещё ниже склонившись, тихонько поцеловал его в лобик, и снова, выпрямившись, застыл у кроватки. Если бы Каменский просто полюбовался её Андрюшей, как обычно любуются хорошие люди спящими детьми, Мария не стала бы задумываться над этой первой встречей сынишки с её другом. Её влекло к новым впечатлениям, к той игре слов и взглядов, какою всегда сопровождается начало любви. Ещё минуту назад, когда Каменский знакомился с её друзьями, она беспечно говорила себе: ну, что ж, если это любовь — почему бы и нет? Я свободна, я молода, кто может запретить мне? Я ничем не хочу себя связывать, но я, кажется, влюблена в него и рада, рада, рада, что он — мой… И где-то в глубине её сознания мелькнула мстительная мысль о Борисе Трубникове.
Сейчас, глядя на взволнованное и строгое лицо Каменского, она внезапно поняла, что этот человек очень серьёзен и прям, что он заранее, ещё не объяснившись с нею, принял на себя ответственность, которую она не собиралась возлагать на него, и потребует от неё большого и полного решения, потому что ему нужно всё или ничего. И ей стало трудно и страшно с ним.
— Пойдёмте, — сказала она, открывая дверь в столовую, — я потушу свет, а то он проснётся.
Каменский перехватил её руку и резко закрыл дверь.
— Марина! — позвал он так, как будто она находилась на другом конце комнаты.
Она подняла к нему побледневшее лицо.
— Я люблю вас, — сказал он медленно и громко. — Я не знаю, когда вы станете моею, но вы должны знать, что я ваш. Пусть всё, что я буду делать на войне, я буду делать так, как будто это и ваш приказ.
Она молчала. На эти прямые слова можно было ответить только таким же прямыми, всякий иной ответ звучал бы недостойно.
— Не пугайтесь, — сказал он, грустно усмехаясь. — Я отдаю вам себя. Но я ничего не потребую от вас, пока вы сами не захотите.
6
Б комнате тёти Саши, у небольшого зеркала, украшенного бумажными цветами, три девушки щипцами завивали волосы. Ольге было немного смешно и уже непривычно участвовать в этих девичьих приготовлениях к балу, но уклониться от них нельзя было — да и не хотелось. Со смешанным чувством весёлого ожидания, стыда и восторга смотрела она в зеркало на своё лицо, изменённое обрамлявшими его нехитрыми кудерьками. Исхудалое, обветренное, возбужденное предстоящим небывалым праздником, оно нравилось Ольге. И ей казалось естественным, что Гудимов, если не скажет сегодня, то подумает: «Молодец девушка, хорошо справилась с заданием! Толковый организатор, смела, инициативна… да и хороша собой!..»
«Хороша? — сама себя спросила Ольга, всмотрелась в своё отражение и сама же ответила: — Хороша».
— Ну, и удался пирог! — воскликнула за её спиною тётя Саша.
Ольга проворно встала и успела помочь тёте Саше переложить огромный пирог с противня на влажную салфетку. Тётя Саша закутала пирог салфеткой, потом шерстяным платком и одеялом.
— Тёплый принесём, — уверенно сказала она. И вздохнула: — Уж скорее бы!
Все три девушки, казалось, одинаково радовались празднику, и все три замирали от страха перед тем, что итти на хутора придётся тайком, в темноте, под носом у немецкого гарнизона. Но Ольга была спокойнее всех. Столько тревог, страхов и забот стоила ей подготовка к празднику, проведенная украдкой, через верных людей, так трудно было всё сделать, не выдавая себя, что волнение её уже перегорело.