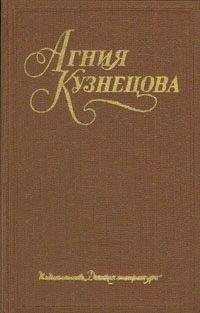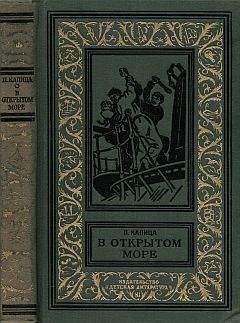Аурел Михале - Тревожные ночи
Из-под развалин и из укрытий стали выползать дрожащие гитлеровцы с поднятыми руками, с белыми платками. Немногим удалось спастись. Мы загнали их в угол, окружив сильной охраной из наших бойцов, с нацеленными автоматами, с обращенными против них штыками.
Когда рассеялась дымовая завеса, окутывавшая высоту, я увидел приближающегося ко мне бойца с раненым на спине. Осторожно встав на колени, он опустил его на растянутую на земле плащ-палатку. Лицо и грудь раненого были в крови, он глухо стонал. Я склонился над ним — это был Муря. Он единственный из делегации уцелел.
Я приподнял его голову, чтобы он мог увидеть жалкую кучку дрожащих немцев, продолжавших стоять с поднятыми руками. Он сделал невольное движение к винтовке, но тут же упал, обессиленный. Отдышавшись, попросил меня подвести его к телу Андрея Ивановича. Увидя его изрешеченный пулями труп, он рванулся, словно хотел броситься на пленных, но упал ничком на землю, шепча окровавленным ртом:
— Собаки! Бешеные псы! Убили Андрея Ивановича! Изверги!
Я бросился к нему и обхватил руками, стараясь успокоить. Глаза его наполнились слезами. Он рыдал, как ребенок. Потом, вцепившись в мою руку, стал в отчаянии шептать слабым, прерывающимся голосом:
— Они убили Андрея Ивановича, господин младший лейтенант. За что они убили его? Мы ведь шли к ним с миром.
Долго он не выпускал моей руки, судорожно сжимая ее, шепча умоляюще:
— Не прощайте им этого, господин младший лейтенант! Не прощайте!
Я успокоил его, как мог, и передал в руки санитара. Мы затолкали пленных в траншею и, оставив под охраной бойцов, бросились к другой стороне высоты, где еще бушевал бой. Навстречу нам неслись победные крики румынских и советских бойцов, штурмовавших последние немецкие укрепления. Все сильнее нарастал гул танков, все яростнее гремели залпы, сотрясая землю и воздух и отдаваясь по ту сторону фронтов громким раскатистым эхом.
Конец (Рассказ начальника головного отряда)
Мир! Первые его мгновения пронеслись, как вихрь, как ослепительная вспышка света. Мысль, что я уцелел, вырвался живым из этого ада, потрясла, ошеломила меня. Ни умом, ни сердцем не мог я сразу объять радость, которая охватила меня тогда. Должно было пройти некоторое время, прежде чем я поверил, что это было действительно так.
Сначала внезапно прекратился этот обстрел, в течение нескольких часов бушевавший над позициями немцев. Потом бурей пронеслась по фронтам весть о прекращении огня. Обезумев от радости, солдаты выкрикивали «ура», яростно палили из винтовок, автоматов. Небо — море огня, какой-то космический фейерверк. Ввысь непрерывно взвивались ракеты, трассирующие пули. И вдруг все погасло, смолкли один за другим пулеметы и пушки, и снова тишина, тишина, почти неестественная, легкая, как пушинка, опустилась на землю и фронты. Люди еще оставались в окопах, переполненные радостью, в которую не осмеливались поверить. Одичавшие, разуверившиеся за годы войны, они никак не могли постичь простую и великую истину, что война окончилась.
Я вылез на край окопа и долго сидел, прислушиваясь к этой необычной тишине. Я безмерно устал от войны, она вымотала из меня все силы. Я делал все словно в забытьи. Мне казалось, что, продлись война хотя бы еще один день, и я бы непременно погиб. Может быть, именно поэтому я чувствовал себя таким старым. Меня состарила война, бесчисленные дни и ночи, проведенные на фронте. После стольких волнений и страданий, после всех перенесенных ужасов и мук ночь эта глубоко меня взволновала.
— Кончится ли она когда-нибудь! — нервно вырвалось у меня.
— Переживем и эту ночь, господин младший лейтенант, — услышал я рядом голос своего связного Чионки.
«Да, — подумал я. — Жизнь следовало бы измерять не количеством прожитых дней, а количеством переживаний, их глубиной и силой».
Мне хотелось вырваться из моего грустного раздумья, и, поднявшись, я стал пристально всматриваться в темноту ночи, ожидая рассвета…
Смятение, растерянность не оставляли меня. Тому, кто не пережил по-настоящему войну, не понять, как стремительно проходят порой дни и ночи на фронте. Своим бегом они раскрывают перед тобой новое качество времени — то, что длительность его зависит от восприятия человека, и тем выявляют его подлинную глубочайшую сущность. А в душе остаются после того рубцы, на сердце оседает тяжесть, притупляются чувства, сдают нервы…
«Нужно иметь крепкую струну, чтобы она вибрировала, но не рвалась», — вспомнил я слова своего связного, сказанные в одну из самых страшных минут, которые нам пришлось с ним пережить в этой войне, когда мы попали в окружение.
«Сохранила ли еще моя струна способность вибрировать?» Я чувствовал, что весть о мире застала меня неподготовленным… Я был так измучен, что не мог в должной мере радоваться ей. Ведь свои юные годы, годы, когда человек нащупывает свой путь в жизнь, я сидел не на университетской скамье, а в холодном, сыром окопе. Не по мирным и радостным улицам пришлось мне шагать, а по необъятным дорогам войны, по всей Трансильвании, вплоть до самой Чехии. И не науку должен был я штурмовать, а немецкие укрепления и доты. Вместе с сотнями и тысячами юношей моей страны встретил я грудью атаки врага, танки с черными крестами. Истекающий кровью, под свинцовым дождем переправлялся я вброд через Муреш и бурную Тиссу, прятался в подвалах Будапешта, мерз в Татрах. Окруженный гитлеровцами, целых три дня и две ночи стоял насмерть на высоте тысяча восемь с горсткой солдат в девятнадцать человек. На собственном опыте познал я коварство минных полей и опасность, таящуюся в проволочных заграждениях. Изведал и разящую силу заградительного огня немецких пулеметов и смертоносный блеск их стальных штыков.
— Господин младший лейтенант! — неожиданное обращение ко мне прервало мои размышления. Я вдруг увидел, что меня окружили бойцы моего подразделения. У каждого в руках была алюминиевая кружка с ромом. Чионка вручил такую и мне. Мы чокнулись.
— Мир на тысячу лет! — провозгласил один из бойцов, и все разом поднесли кружки к губам.
Я не любил пить и никогда не пил на фронте, но тогда сделал несколько глотков. Это было как раз то, что мне было нужно. Дружеское общение и несколько живительных глотков рассеяли мои мрачные мысли.
Бойцы разбрелись по своим окопам. Оттуда несся несмолкаемый гул голосов. Он все нарастал — радостный гул живых существ, которым посчастливилось вырваться из этой бойни. Кто-то лежа у пулемета, еще обращенного к немцам, даже тихонько запел. А позади, от наших командных пунктов, все еще неслись ликующие крики…
— Человек… таков уж человек! — снова услышал я возле себя шепот моего связного. — Он как струна, которая звучит, когда коснется ее дыхание жизни… И у каждого только одна-единственная, ему одному присущая струна!..
Он продолжал еще некоторое время распространяться на эту свою излюбленную тему — о том, что струны иногда лопаются раньше времени… Затем замолчал, как и я, задумчиво прислушиваясь к внезапному пробуждению фронтов.
— А у других… — пробормотал он вдруг, — эта струна из серебра, бессмертная…
Я любил его слушать, как голос нашей земли и наших людей. Сколько раз обдумывал я его слова в тишине. Они казались мне полными глубокого смысла, они давали утешение, пробуждали надежды. Простой, ясный взгляд на жизнь Чионки заставил меня еще сильней ощутить свое смятение.
Да, моя струна безнадежно ослабла! Хватит ли у меня сил натянуть ее так, чтобы она снова могла издавать звуки?
Я сидел на краю окопа, словно на страже. Гул голосов постепенно смолкал, поглощаемый тишиной ночи фронтов. Время словно замедлило свой ход. Вид наших позиций, царящие на них беспорядок, непрекращающаяся суета и шепот мало напоминали сейчас войну. Неожиданно с новой силой охватило меня чувство освобождения, которое я пережил в первые мгновения мира. И вдруг я почувствовал в себе силу, которую даже не подозревал.
— Чионка, — крикнул я связному. — Добудь несколько фляг с ромом! Айда к немцам!
Он побежал к окопам, а я повернулся лицом к немецким позициям. Здесь не сверкали более огоньки выстрелов, они погасли навсегда. Ракеты не взвивались в смоляную тьму неба. И орудия больше не грохотали… Глубокая пугающая тишина нависла над обширным пространством по ту сторону колючей проволоки. Немецкие позиции, темные, безмолвные, притаившиеся, казалось, вымерли…
Только вдали горизонт пламенел красным призрачным светом. Его краснота все более и более сгущалась. Иногда над кровавым заревом взметались огненные языки и, застыв, повисали в воздухе.
— Горит, — шепнул мне подошедший Чионка. — Подожгли что-то.
И вдруг кроваво-красный пылающий свет словно приблизился к нам. Из темноты четко выступили линии немецких укреплений, близкие, пустынные, покинутые.