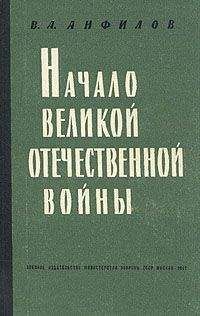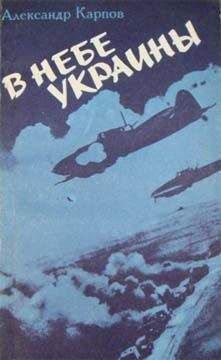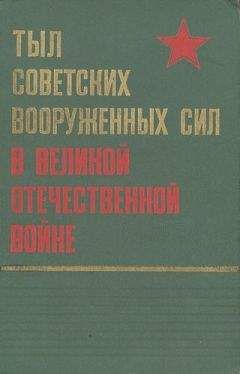Виктор Бороздин - И опять мы в небе
…Мешки укладывали вокруг сморщенной, пока еще безжизненной оболочки, крепили к ней тросиками. И вот она уже в плену этих тяжелых, туго набитых колбасок.
Наконец можно было начинать сборку. Прямо на траве разложили чертежи. Стоя, сидя, приткнувшись кто как мог, сгрудились вокруг. Началась работа, которую они так нетерпеливо ждали – переносить всю сложную конструкцию стабилизаторов, рулей, газовых клапанов, системы тросов, управляющих ими, с чертежей на распростертую перед ними оболочку будущего корабля. Рулевое оперение, катушки со стальным тросом, дюралевые трубки – все уже было под рукой. Они взялись за дело, ничего не замечая вокруг.
Руководил всеми работами замечательный человек, отлично знающий дирижабельное дело, старейший русский воздухоплаватель Евгений Максимилианович Оппман, еще в империалистическую войну летавший командиром «Зодиака», одного из четырех закупленных перед войной царским правительством во Франции дирижаблей. С этого дирижабля он сбрасывал бомбы на вражескую австрийскую крепость Перемышль – в империалистическую войну такое еще было возможно.
Подвижный, энергичный, как ни странно, без следа военной выправки, мягкий в обращении человек. К дирижаблю он относился нежно, знал все его повадки, все особенности каждого его элемента. Сам очень точный в работе, он невольно вызывал и у других такое же отношение. Ясно и наглядно раскрывал перед ними всю суть нового, пока еще известного им только в теории необыкновенно увлекательного дирижабельного дела. Сразу оживали чертежи, становилось понятным, куда и для чего тянется каждая расчалка, где ее надо крепить, какую нагрузку ей предстоит выдерживать.
Раскрутив десятиметровые рулетки, они ползали по оболочке, отмеряли, размечали…
Иногда им казалось, что кое-что здесь можно сделать иначе, лучше, стоит только немного поломать голову. Они тут же начинали чертить на клочке бумаги новые схемы. Демин пробовал перекраивать по-своему. Гудованцев прикидывал что-то свое. Они доказывали друг другу, опять брались за рулетку…
– Схватились, «теоретики», – смеялся над ними Володя Лянгузов.
Нехотя подходил, заглядывал через плечо. И… тут же включался. Теребя густую шевелюру, иронически приглядывался Володя Шевченко. Их окликали, звали заняться другим, сейчас более нужным делом. Они не слышали.
Оппман только довольно посмеивался: «Давайте, давайте, орлы!» Он считал: это хорошо, что ребята во все вникают, фантазируют.
Мотор еще на заводе был укреплен на специальных кронштейнах позади гондолы. Там же, на заводе, его и испытали. Но и здесь надо было проверить не один раз. Бедный мотор! К нему липли все: и будущие бортмеханики, и будущие инженеры. Как-никак он их динамическая сила, которая поведет их в воздухе! Уж отладить, чтобы заводился с пол-оборота и работал на совесть! Его смазывали, протирали, зачищали… В замызганных майках, насквозь пропитанные бензином и маслом мотористы колдовали вокруг него. Миша Никитин, который обычно двух минут не мог побыть на месте, тут становился невероятно усидчивым. Без конца развинчивал, завинчивал…
– Анастасьич, как там зажигание? – распрямлял спину Коняшин.
– В порядке, – довольно усмехался Никитин.
«Анастасьич» – это в шутку так звали его по имени матери – тети Насти, шустрой и неунывающей, как и он, ткачихи с ситценабивной фабрики. Рано потерявший отца, Миша был всегда трогательно нежен к ней.
– Запускаю. Костя, дай подсос. Крутани.
Шмельков брался за конец винта:
– Контакт.
Резкий рывок, второй… Лопатки под Костиной рубахой ходили ходуном.
– От винта! – громко командовал Коняшин. И прокручивал ручку магнето.
Мотор простуженно кашлял.
С ближних деревьев шумно взлетали птицы. А мотор смолкал…
– Искры нет. Свечи надо зачистить, – спохватывалась аккуратная Женя Ховрина, – серьезно вам говорю.
– Да нет, свечи в порядке, – возражал Никитин.
– Тут в подаче горючего дело, жиклер продуть надо, – убедительно вставлял Шмельков и, открыв карбюратор, начинал копаться.
– Не спорьте, мальчики.
Голос у Жени ровный, певучий. И настойчивый. Спорить с ней невозможно, да и бесполезно. Она уже вывернула две свечи и промывала в бензине.
Через минуту снова слышалось:
– Крутани! От винта!
И мотор вдруг начинал работать – мягко, ритмично. Все с затаенной радостью вслушивались в его оглушительно-нежное биение.
– Коля, прибавь оборотов.
Мотор ревел гуще, всю гондолу трясло, как в лихорадке. Мотористы с трепетом и надеждой вслушивались в его работу.
– А ведь, кажется, не болен. Здоров, голубчик!
Они вставали с солнцем (жили тут же, в палатках), по росе бежали вниз, по оврагу, всплесками разбудив сонную воду, бросались в Москву-реку. И в течение дня не раз еще бегали окунуться, набраться новых сил. Стихала работа, когда уже темнело.
Обед им привозили на лошади, всегда с опозданием, остывший, но они не замечали – аппетит у всех был отменный.
Еще издали слышался расхлябанный перестук тележных колес по кочкам и хриповатый окрик возчика – дяди Феди:
– Н-но, клятущая, н-но-о!
Тут же несколько голосов сразу провозглашали:
– Харч едет! Кончай работу!
Немного позже, когда хорошенько познакомились с соседями – вблизи расположилась воинская часть, – те сжалились, пригласили питаться в их столовой. После того как кончали обедать солдаты, оттуда раздавался громкий клич:
– Совиахи-и-им! Обе-еда-а-ать!
Овраг сразу пустел, оставались лишь дневальные. Все остальные моментально строились по четыре в ряд.
– Шагом марш! – командовал Оппман. – Запевай!
И правофланговые, они же самые голосистые, оба светло-русые, бравые, Костя Шмельков и Саша Иванов, расправив грудь, зычно запевали:
Оружьем на солнце сверкая,
Под звуки лихих трубачей…
Все во много голосов ухали:
По улице пыль поднимая,
Проходил полк гусаров-усачей.
Правда, усы, да и то не гусарские, а небольшие, подстриженные, были лишь у Евгения Максимилиановича. У остальных они только пробивались. А сверкали на солнце у них вместо оружия заткнутые за пояс алюминиевые ложки. Вообще-то ложку солдату положено держать за голенищем сапога. Но дело в том, что голенищ, да и самих сапог в то время у них не было. «Пыль поднимала» босоногая команда, не по форме в то время снаряженная, но от этого не менее удалая.
Вечерами уютно шумел над костром закопченный «по уши» чайник. Совсем рядом, в густой листве выводил неповторимые коленца соловей. А где-то в конце оврага тревожно кричала иволга…
Сколько песен было пропето у вечерних костров!
Запевал обычно Костя Шмельков. Костя любил петь. Дома у них пели все: мать, отец, сестры (а их было восемь), он с братом Алешкой. Сидели они, бывало, отец и сыновья, на низеньких табуретках, сапожничали, тачали просмоленной дратвой женские башмачки на французском каблуке рюмочкой, постукивали молотком, вгоняя деревянные гвоздики в подошву. И пели. Отец знал много песен – все больше старинных, раздольных, ямщицких… Научил сыновей – и петь ладно, и работать мастерски. Пригодилось не только в сапожном деле…
Мандолина, гитара, особенно балалайка – на ней почти каждый умел играть – переходили у костра из рук в руки. А скрипач у них был один, Ваня Ободзинский. Когда брал он скрипку, все замолкали, пристраивались поудобнее.
Музыкант Ваня был отличный, недаром его из родного города Умань направляли учиться в Киевскую консерваторию. А он «прирос» к дирижаблям и отстать от них, видно, уже не сможет. И скрипку забыть тоже не может.
Он взмахивал смычком и начинал. Все инструменты шли за ним. Они играли старинные романсы, арии из опер и, конечно, песни. Потихоньку разливали по оловянным кружкам пахнущий дымком чай, пили, стараясь не хрустеть сахаром, обжигая губы, чтобы не причмокивать.
Неожиданно, хитро глянув на Мишу Никитина, Ваня переходил на что-нибудь безудержно-веселое. Миша сразу подскакивал, будто только этого и ждал. Выделывая ногами невероятные кренделя, поворачивался то к одним, то к другим, вызывая.
Ай, дербень-дербень Калуга,
Дербень Ладога моя!
Бросая направо-налево насмешливый взгляд, оттопывала бисерные дробушки Катя. Кругом все ходуном ходило, топало, кружило…
А Катя заведет всех и исчезнет.
Хватятся:
– Где же она?
– А Женя где?
– И Коняшина нет.
А трое в это время тихонько шли по краю оврага, раздвигая тянувшиеся к ним ветки, наугад обходили обступивший кустарник. Молчали. Слушали затаенный лесной шорох. И так неспокойно было у них на душе! «Он Катю любит, – думала Женя, и холодок бежал у нее по спине, – она девчонка вон какая огневая!» «Женю он любит, – с грустью думала Катя. – Разве я могу тягаться с ней? Вон она какая – видная, красивая…»
Забегая немного вперед, надо сказать, что Катя проявила однажды характер: приняла решение, от которого всю ночь проревела в подушку, но не изменила его – отпросилась у начальства и уехала в Ленинград. А через три дня получила от Жени письмо: «Коля любит тебя, приезжай, Катя, – писала Женя, – знала я это, а теперь и он сказал». Катя не поверила, не вернулась. И тогда прислал письмо Сережа Демин: «Приезжай скорее, беглянка, Николай без тебя совсем голову потерял, чуть под винт не попал…»