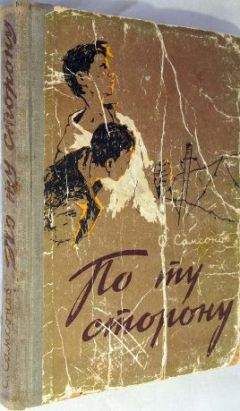Войцех Жукровский - Направление – Берлин
Бачох шел последним, он был обижен на капрала, хотя понимал, что тот кричал не на него. Это был вопль бессильного гнева и сожаления, что он, капрал, не мог отогнать смерть, подстерегавшую их на каждом шагу.
Дорога, обсаженная деревьями, уходила вдаль, прямая, как стрела.
Шагали торопливо, словно хотели поскорее оставить позади струю черного дыма, которая, как траурная лента, вилась над холмом. Может, еще несколько дней они будут вспоминать о погибшем, будут натыкаться на его флягу, потрошить его вещмешок и, поразмыслив, примутся сочинять письмо его родным. В этом письме погибший станет героем, но потом его место займет кто-то другой, ряды сомкнутся, ущербинка исчезнет. Ведь невозможно прихватить убитого с собой. И точно так же, как само тело его будет предано земле, так и воспоминания о нем померкнут, исчезнут. Только что он был, но вот уже старшина роты вычеркнул его фамилию из списка живых.
– Чего спотыкаешься? – потряс за плечо Клысь задремавшего на ходу Залевского. – Хочешь, чтобы твои крылышки украли?
И помог солдату поглубже запихнуть сапоги, торчавшие из ранца.
– Ох, мать твою… до чего же больно, – прихрамывал, отстав от остальных, Фрончак, – пожалуй, придется топать босиком…
– Что случилось? – вырос рядом с ним Наруг.
– Меня как будто подковали раскаленным железом, – прикусил тот губу.
– Оставайся на месте. Садись в кювет. Поедешь с обозом. Он скоро подтянется.
Фрончак тем временем уже стянул с ноги ботинок и, развернув портянку, изучал белую вспухшую ступню, шипя от боли.
– Стер до крови, – заявил он, но капрал был уже далеко, он догонял свой взвод. Поэтому Фрончак только сорвал листок подорожника и, поплевав на него, приклеил к пятке. А затем с облегчением погрузил ногу в росистую траву.
Опершись спиной о ствол дерева, он ждал, глаза у него слипались. Он чувствовал, как мышцы наливаются усталостью. Птицы посвистывали вокруг. Занимался солнечный день.
Первый патруль уже достиг деревушки, домики стояли нетронутые, побеленные стены светлели на солнце. Оконные стекла блестели, будто их только что протерли. За ними видны были цветочные горшки с бегониями и миртами и кромки занавесок. Но тишина настораживала. Ни из одной трубы не вился дым, свидетельствующий, что кто-то готовит завтрак, ни одна собака не залаяла, и даже куры не закудахтали, хотя уже пора было выпустить их из курятников.
– Слушай, ущипни-ка меня, – сказал Острейко. – Все целехонько, все на месте, словно война здесь и не проходила… Эй, есть тут кто-нибудь? – ударил он в дверь кулаком, а потом нажал на ручку, и дверь распахнулась, как бы приглашая войти.
– Никого нет! Эсэсовцы угнали всех за Одру.
– Я выстрелю? Может, кто-нибудь появится, – поднял автомат Залевский.
– Не стреляй, а то наши подумают еще, что мы напоролись на вражескую засаду, – запретил Наруг. – Проверить дома! Если обнаружите что-то подозрительное, немедленно сообщить мне! Ну, начинайте… А ты, Залевский, отправляйся на шоссе, поджидай наших. Доложишь, что здесь спокойно.
– Вы, пан капрал, только меня одного и видите? Всегда я да я. У меня ноги болят.
– Проваливай отсюда, а то ты меня и в самом деле разозлишь…
– Пан капрал всегда мною недоволен, невзлюбил, вот и гудит.
– Как муха над кучей дерьма! – закончил Наруг. – Ты еще поблагодаришь меня когда-нибудь.
Тяжело вздохнув, Залевский поплелся на шоссе, он видел, как его товарищи начинают обследовать дома. Бачох уже нес под мышкой пухлую подушку и переброшенную, как мешок, через плечо клетчатую перину.
Острейко и Багинский, сидя на скамейке возле дома, поглядывали на садик, аккуратно обнесенный зеленым штакетником.
– Только что покрасили, – со знанием дела отметил Острейко. – Хозяйственные люди здесь жили… Плохо им жилось тут, зачем до самой Москвы полезли?
– Гляди, они еще нас передразнивают, – показал Багинский на шар из желтого стекла, насаженный на палку посреди клумбы, искажавший их отражения. – Я бы разбил его вдребезги…
– Брось ты!
Передохнув, они подошли к дверям дома; из передней была видна натертая до блеска лестница.
– Смотри-ка, и мезонин у них – что надо!
– Угнали их гитлеровцы, ушли, в чем были… Ну, как, нравится тебе здесь?
– Земля скудная, много песку, – поморщился Багинский.
– Да, земля худосочная, но хозяйство неплохое. Слушай, а что, если мы сюда бы… Что, если здесь поселиться: ведь земли эти будут наши.
– Раз ты здесь, значит – наши. Мы же вернулись на отчие земли.
– Но сперва надо покончить с Гитлером.
– Покончим, до Берлина уже недалеко. Сначала побываем там, потом вернемся. Тут жить можно.
– Прежде надо покончить с одним делом, – степенно рассуждали они, словно говорили о полевых работах, о том, как унаваживать землю, о пахоте. Надо – так надо, они не станут мешкать, но настоящая жизнь у них – впереди. Они тосковали по тому дню, когда смогут наконец отправиться в луга с косой.
– Дай закурить, – попросил Багинский.
– На, тебе не жалко! – Его собеседник наскреб на дне кармана горстку бурого самосада. – Только выбери мусор, а то дым не тот… Вот, возьми еще щепотку.
Между тем со вторым взводом прибыл поручик Качмарек. Он шел впереди, а на лошади восседал, уперев босую ногу в стремя и держа в левой руке ботинок, Фрончак. Поводья только мешали ему.
– Ночлег обеспечен? – поинтересовался Качмарек, позевывая и потягиваясь. – Я бы поспал.
– Все готово, – улыбаясь, похвастался веснушчатый Бачох, как всегда приветливый, готовый услужить.
– Сено или солома?
– Нет, настоящая перина и подушка. Свежие, как в брачную ночь.
– Ну, тогда все в порядке. – Поручик сунул руку в планшет и вытащил пачку писем. – Раздай ребятам. Так где же располагаться?
– Вон в том голубеньком домике.
Бачох с беспокойством перебирал письма, чувствуя на себе угрюмый взгляд Наруга. Он внимательно читал фамилии: вдруг весточка для друга, может, кто-то из его родни.
Ведомые каким-то инстинктом, сбежались солдаты. Они теребили Бачоха за рукав, стремясь прочесть фамилии на конвертах.
– Ну ты, давай… Я сам быстрее найду! – просили они.
Бачоху пришлось взобраться на повозку, из которой выпрягли лошадей, и, словно с амвона, выкрикивать фамилии:
– Сосна Игнаций?
– Игнаций или Томаш?
– Ты что, оглох? Я же ясно говорю: Игнаций.
– Багинский!
– Я здесь, – выхватил тот письмо и отошел в сторону, чтобы внимательно прочесть вслух невыразительно написанный адрес на конверте.
– Дзеньтёлэк!
– Давай! Я здесь!
– Багинский, кто тебе пишет? Из дому? – допытывался Острейко.
– Да, из дому. Не мешай, я хочу сам…
– Ковальский! – выкрикнул Бачох и сразу же вспомнил, что тот пал в боях за порт в Колобжеге.
– Ковальский убит! – вздыхали солдаты. – А баба его все пишет и пишет, она еще ничего не знает…
– А над ним уже травка успела вырасти. Жаль мужика.
Приковылял сюда и Фрончак в расшнурованном ботинке.
– А мне ничего не было? Меня он не называл?
– Папаша, ваше письмецо адресовали к уланам, потому что вы свой зад на лошадке любите катать! – подтрунивали солдаты над старым воякой.
– Да ваша жена и писать-то не умеет!
– Посмотри-ка на него, какой ученый нашелся! – обиделся Фрончак. – Подожди, сучий сын, вот у меня нога заживет, я тебе покажу!
– Больше никому нет! Все! – Бачох соскочил с повозки.
Солдаты расходились, неудовлетворенные, каждый жаждал известий из дому, самых будничных известий: началась ли пахота, как с озимыми, кто на деревне женится, разрешено ли в казенном лесу спилить несколько сосен для починки крыши, и правда ли, что землю будут делить и уже никому, кто хочет работать, не придется бедствовать.
– Боже! – басом прохрипел Багинский и скорчился, словно кто-то двинул ему кулаком под ложечку. – Нет, неправда…
– Постой, – подскочил к нему Острейко, взяв из его безвольных пальцев скомканное письмо, и принялся громко читать, а Багинский с застывшим лицом слушал, как бы надеясь, что мог ошибиться.
– «… сегодня уже четвертый день, как мы схоронили нашего любимого сынка, Сташека, которого убили бандиты…» Постой! Багинский говорил, он – в милиции служит… Еще фотографию показывал. Парню всего девятнадцать лет!
– Багинский, что с вами? – Подошедший Наруг тронул за плечо охваченного горем солдата. – Плохие новости?…
– Сына у меня убили! – Багинский словно хотел выкрикнуть свою боль. – Понимаешь, сына! Что мне теперь делать?
– У меня тоже никого не осталось, – пытался утешить его Наруг.
– Да, но твоих убили немцы! А моего? Свои, соседи по деревне, которые ушли в лес.
– Ничего не поделаешь. – Капрал погладил его по спине, которая согнулась под непосильным бременем. – Даст бог, вернемся, накажем виновных. А теперь надо кончать войну.
Солдаты стояли, как оглушенные. Это не умещалось в их сознании. Из газет они знали, что в лесах еще хозяйничают политические банкроты, ставленники лондонского правительства. Но чтобы убить сына солдата, который на фронте сражается с немцами?! Это взывало к отмщению!