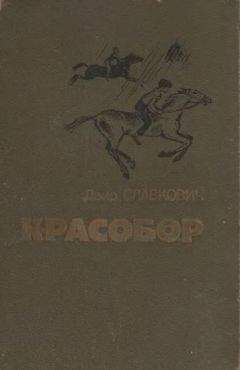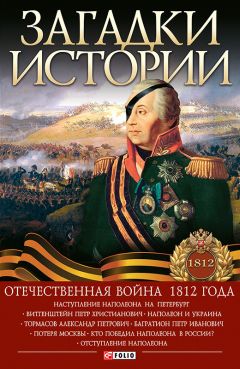Антон Деникин - Офицеры
— Вы меня звали, товарищ командарм?
— Убирайтесь к черту, вы мне не нужны. Отчего вы не сидите в своем купе?
Захлопнул дверь. Еще тягостнее стало на душе, и еще мучительнее захотелось «свободы»… Снова закрыл глаза. Перед мысленным взором проходили дни, мелькали образы, как тени. Прошлое… Не всегда оно было радостным, чаще горьким и суровым; но ни злобы, ни обиды не оставило — одно лишь безграничное сожаление о чем-то потерянном, невозвратном… Посмотрел в окно, вдаль… Дождь перестал. Одетое в багрянец облако нависло краем над дальним лесом и селом. Золотило окна и играло мелкой рябью, многоцветными переливами в сплошной водной пелене, покрывшей поле; туман стлался низко по земле, довершая иллюзию, будто кругом — бескрайнее море, по которому плывут, колыхаясь, село и лес. «Хорошо бы теперь на море…» Махнул рукой и выпрямился. «Нет, не выбраться уж никуда…»
На столе лежали неразобранные бумаги. Открыл папку. Приказ по дивизии… Подписал, не читая. Донесение начдива о потери обоза… Положил резолюцию: «истребовать от начснаба фронта». Дальше. Приказ военмора: «…Казаки, обманутые Мамонтовым!.. Вы в стальном кольце»… Помечен приказ Москвою. Усмехнулся: «Как скоро, однако, проехал военмор из Тамбова в Москву». Дальше. «Первая книга для чтения», присланная военным отделом ЦИК для распространения среди красноармейцев. Начал перелистывать: «…Кучка генералов и министров топтала кости миллионов солдат, которые шли на убой…» Так. «В деревне не было куска хлеба или стакана молока, потому что все отдавалось помещикам и их собакам…» Х-м! «…Мир принадлежит одинаково всем и должен быть поделен поровну…» Гениально! «Человечество должно идти по гладкой поверхности одинаковости и равенства…» К черту эту дребедень! Дальше. Екатеринодарская газета, снятая с убитого белого… Вот это интересно. Развернул. Красным карандашом отчеркнута статья — стратегический очерк последнего периода. Сбоку рукою Гройса сделана пометка: «Обр. особ. вним.». Стал читать.
«Поскольку первоначальное направление удара N-ской советской армии являлось глубоко продуманным и угрожающим не только нашему жизненному центру, но и всем сообщениям Добровольческой армии, постольку поворот явился полнейшей бессмыслицей, свидетельствующей только о непонимании самых элементарных начал стратегии советским командующим…»
Командарм почувствовал, как кровь прилила к лицу. Швырнул газету.
«Дурак! Непонимание… Ты вот много понял…»
Сошла дымка тихой грусти, и в душе расползалась горечь обиды. Встал и начал шагать по купе.
Стук в дверь.
— Кто?
За дверью ответили.
— Войдите!
— Наштарм спрашивает, не будет ли какой-нибудь срочной передачи, так как через час снимаем линию.
И потом шепотом — таким тихим, почти неслышным:
— Ваше Превосходительство, комиссар будет сейчас говорить с реввоенсоветом фронта. Я включил ваш аппарат…
Генерал кивнул. Ответил громко:
— Передач не будет. Можете снимать.
— Слушаю-с…
Вышел. Командарм сел в кресло. Поднес к уху телефонную трубку.
— Товарищ Мехоношин? А, здравствуйте, как поживаете? Но теперь не в этом дело. Я так горячусь, что не могу спокойно держать телефон. Но не в этом дело. Вы слушаете?
— Да.
— Я должен сейчас миновать всякие препятствия и ехать к вам. Пришлите паровоз.
— Скажите, что случилось, и, пожалуйста, покороче. Мне некогда — приехал нарком.
— Что вы говорите? Так тем более. Вы читали нашу телеграмму? Ну, что вы скажете об этом?
— Дело неважно. Как, однако, понимать последнюю вашу фразу?
— Как понимать! Вы хотите, чтобы я доверил свое мышление телефону? Хорошее дело! Могу только сказать, что вопрос чрезвычайной важности. Вы слушаете? Чрезвычайной! В общем и целом он касается ни менее ни более как контрреволюционной измены! Ну? Теперь вы поняли? Но не в этом дело. Скажите, когда вы пришлете паровоз?
— Постараюсь поскорее.
— Товарищ Мехоношин, вы должны прислать паровоз немедленно. Что? Ну, да… До свиданья. Пока.
Командарм положил трубку и сидел недвижно. Мысли потонули в охватившем его чувстве огромной душевной усталости.
«Будь что будет!..»
* * *
— Бывают такие горе-коммунисты, товарищ Гройс, которые обращаются с военспецами как с подсудимыми или просто с арестантами. И, мне кажется, вы из числа таких. Вы сами этим толкаете неустойчивых представителей командного состава искать спасения у белогвардейцев.
Гройс сидел в богатом вагон-салоне наркома. Он терял невольно уверенность и свой обычный апломб в присутствии высокой особы, импонировавшей ему своим положением и тоном. Терял и мучился этим. Его маленькая, невзрачная фигурка тонула совсем в глубоком кожаном кресле, и от этого становилось еще более неловко.
— Но, товарищ нарком, не в этом дело. Разве не правда, что одна из главных причин неудачи нашего фронта, в общем и целом, заключается в скрытом предательстве командного состава? Я уже не говорю, что они целыми пачками переходят к Деникину…
— Вам здесь, в четыре глаза, я скажу: «да, это правда». А в своем приказе я написал: «это — чудовищная ложь»… Участие военспецов в нашей работе является делом жизненной необходимости. Мы отлично знаем, что огромное большинство кадровых офицеров не изжило и не изживет никогда старой психологии. Но мы плюем на психологию! В нашем строительстве армии они — только материал. Когда у нас будет достаточно своих красных командиров, мы выбросим кадровых офицеров, как паровоз выбрасывает отработанный пар. Выбросим или раздавим. Но для этого нужны годы, понимаете?.. Пока же мы заставляем их служить — террором, страхом, безвыходностью положения, выгодой, доверием. Да, да — даже доверием — вот вы этого не понимаете — какая мягкая соломка для готовых упасть — доверие… Вы говорите — «предают». Ну да, предают! Но если спросить, что до сих пор причинило нам больше вреда — измена бывших кадровых офицеров, или неподготовленность новых наших командиров, так я вам скажу, что последнее.
Нарком говорил резко и смотрел на Гройса сквозь пенсне слегка прищуренными глазами, придававшими его лиду выражение покровительственное и слегка презрительное. Это чувствовал Гройс, и это его обижало, но отделаться от своего смущения он не мог. Хотя партийный стаж его был выше, чем у наркома, а заслуги… Гройс вообще считал в глубине души весь совнарком «шарлатанами», а себя незаслуженно обойденным.
— Позвольте, однако, товарищ, вернуться в плоскость конкретных фактов. Измена командарма, хотя нет прямых доказательств, теперь уже не подлежит никаким сомнениям. И…
— И тем не менее командарм N-ой красной армии не может быть обвинен в измене.
Гройс привскочил в кресле и приоткрыл даже рот от изумления.
— Я извиняюсь, товарищ нарком, но я начинаю вас уже не понимать совсем.
— Не понимаете? А как отозвалось в армии предательство Григорьева, Миронова, Котомина, Носовича, Все-володова и других, вы не знаете? А что говорят красноармейцы, вы не слышали? Почему пала Полтава? «Предали, говорят, нас в штабах подкупленные командиры…» Почему пал Харьков? На это вам отвечают наши старые приятели, левоэсеровские авантюристы Саблин, Муравьев и другие, в своем воззвании красноармейцам: «Стоит ли вам проливать свою кровь, когда вас предают… Гоните же в шею своих командиров-назначенцев, гоните в шею офицеров и генералов». Вот! Вы понимаете, чем это пахнет? Что будет, если мы останемся совсем без командиров? Или, может быть, скажете, заменить их комиссарами?
— Положим-таки, более тонкая штука ведение всего государственного механизма, однако…
Нарком перебил. Глаза его смотрели поверх пенсне зло и жестко.
— На это я вам, товарищ Гройс, вот что скажу: только Люди с невежественным самомнением могут думать, что рабочая власть может преодолеть буржуазный строй, не учась у буржуазных спецов.
Гройс вспыхнул и громким, свистящим фальцетом крикнул:
— Значит, пусть командарм продолжает нас предавать со всем нашим пепелищем белогвардейцам?
— А это другое дело.
Лицо наркома было снова непроницаемо спокойно. Продолжал, отчеканивая слова:
— Кто попытается использовать свой командный пост в целях контрреволюционных, тот, согласно решению 5-го съезда советов, карается смертью. И это дело компетенции комиссаров.
— Ну, так я же не то же самое говорю? Я с первого же слова сказал, что надо предать командарма военному трибуналу…
— И тем не менее повторяю вам — командарм не может быть обвинен в измене.
Гройс подумал: «Ведь он же издевается надо мной…» Встал красный и злой.
— Извиняюсь, товарищ, но…
— Извиняюсь, товарищ, но меня ожидают еще два доклада. До свиданья!
Гройс вышел в коридор, остановился у окна. Душила злоба к наркому и презрение к самому себе: «Не сумел достойно ответить этому выскочке». Теперь только приходят на ум реплики — такие едкие и остроумные, но поздно. «Что за странный разговор, однако! К чему это он вел?» В мозгу комиссара, как на валики фонографа, развертывалась вновь вся их беседа с наркомом, и вдруг острая догадка мелькнула как молния. Мелькнула и осветила… «Так вот в чем дело!.. Ну да, конечно…»