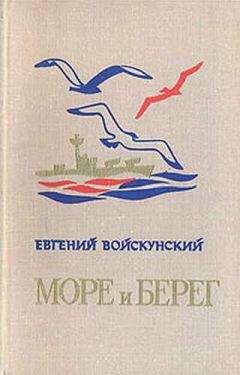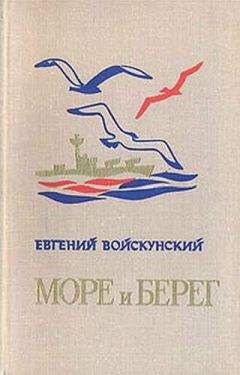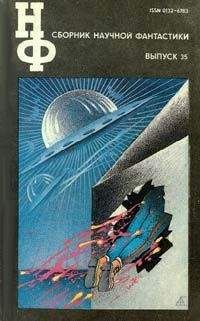Евгений Войскунский - Кронштадт
В вечерней оперативной сводке Совинформбюро сообщило, что наши войска оставили Кантемировку и вели бои в районе Богучар. Теперь у Балыкина не осталось сомнений: вал немецкого наступления на юге захлестнул Россошь. Ведь Богучар — дальше, восточней…
Когда в июле прошлого года он отправлял Юлю с девочками из Кронштадта, он сказал: «Юлька, это ненадолго. Мы их к зиме разгромим, ну, может, к весне». Юле не хотелось уезжать в Россошь: «Чего я там не видела? Где я с девочками помещусь?» У ее родителей дом был маленький, в две комнаты, там старики жили и Юлин старший брат с семьей, — и верно, как туда втиснуться Юле с двумя дочками? «Ну, — сказал Балыкин, — у матери моей поживешь. Я напишу ей». — «Не хочу у твоих жить», — сказала Юля. Она с матерью Балыкина не очень ладила, но это еще ничего, она с Веркой, младшей сестрой Николая Ивановича, была на ножах. Трудный характер у Юли, всюду она требует справедливости, никому поблажек не дает. «Юлька, — сказал он, — ты мне не разводи „хочу — не хочу“. Перезимуешь у моих, а там я за тобой приеду, обратно в Кронштадт заберу». Юля вздохнула: «Да почему ты нас гонишь из Кронштадта?» — «Тут будет трудно, Юлька, бомбежки будут, — сказал он. — Тут же морская база. О девочках подумай». Это и был решающий аргумент в пользу эвакуации — девятилетняя Нина и семилетняя Аллочка. Юля увезла их в Россошь.
Ни в каком дурном сне не мог увидеть Балыкин, что вой на докатится до Россоши…
Спустя неделю «Гюйс», вернувшись в Кронштадт, ошвартовался у стенки Усть-Рогатки. После похода всегда много дел — тут подкрутить, там почистить, сальники сменить, корпус осмотреть — и все такое. Перед обедом Балыкин отправил корабельного почтальона на почту. Он ждал писем — была у него надежда, что Юля с девочками сумела вовремя уехать из Россоши. Понимала же она, что ей — жене комиссара — при немцах несдобровать. Очень он надеялся на Юлькин здравый смысл и расторопность.
В кают-компании за обедом Иноземцев рассказывал, как Плахоткин донимает его стихами — пишет каждый день по стиху, принес длинное произведение, которое начинается так:
Товарищ балтиец, вахту прими!
И снова наш тральщик к походу готов.
В любую минуту своими грудьми
Кронштадт защитит он от подлых врагов!
— Ужасно хочет, чтоб я это в стенгазете поместил, — сказал Иноземцев, посмеиваясь. — Я ему говорю: «Дорогой мой, нельзя же так, какие груди у тральщика?» А он: «Подразумеваются не у тральщика груди, а у команды». Так тоже, говорю, не годится, защитить можно грудью, а не грудьми. Не понимает Плахоткин, почему грудью можно, а грудьми нельзя. Как ему объяснить?
— А ты переправь, Юрий Михайлыч, на «грудью», — сказал Балыкин, — и печатай.
— Я так и предложил. Но он говорит, что рифма нарушается.
— Не в рифме дело, а в содержании. Содержание у Плахоткина правильное.
Вошел почтальон, на безмолвный вопрос Балыкина сказал, что писем нет, и положил перед ним стопку газет.
— А если так, — предложил Козырев, — вместо «грудьми» — «людьми». И рифма сохранится, и по смыслу ладно.
— Да ничего не надо переделывать, — сказал Слюсарь, раньше всех управясь с бледно-желтым омлетом из яичного порошка. — Как написано, так и давай в стенгазету. Это ж народное творчество. Былина о тральщике.
Поверх других газет лежала базовая многотиражка «Огневой щит». Балыкин, потянувшись за солью, уголком глаза вдруг увидел на последней ее странице крупно набранное: «РОССОШЬ». Глазам своим не веря, схватил газету. То была перепечатанная из «Красной звезды» статья Эренбурга. Так она и называлась: «Россошь».
Потрясенно Николай Иванович выхватывал взглядом строчки: «…Сначала над Россошью кружились немецкие самолеты. Они жгли город. Они сожгли его старую часть — западные кварталы. По обе стороны небольшой речки еще дымятся пожарища и, как часовые смерти, торчат почерневшие трубы. Немцы ворвались в город на рассвете. Часть жителей не успела уйти из города… обстреляли уцелевшие дома из автоматов…»
— Что с вами, Николай Иваныч? — спросил Иноземцев.
Обветренное загорелое лицо Балыкина было не узнать — так страшно оно побледнело. Строчки обжигали глаза:
«Вслед за первым эшелоном в Россошь прибыли представители гестапо. Каждую ночь за город уводят местных жителей и там их расстреливают. В овраге лежат трупы… Скажем мученице Россоши: „Мы вернемся. Ждите нас — мы наберемся сил и отобьем“…»
Балыкин шел к двери как старик. Ссутулился вдруг, шаркал ботинками по линолеуму палубы и руку перед собой держал, как незрячий. В другой руке была зажата га зета.
— Разрешите, товарищ командир, — поднялся из-за стола Уманский.
Он вышел следом за Балыкиным.
Светает. Западный ветер гонит волны, и «Гюйс», стоящий на якоре, мотается, подбрасываемый вверх-вниз, вверх-вниз. Хуже нет такой качки — надоедливой, выматывающей.
Умаялся на мостике сигнальщик Плахоткин. А Толоконников, возвышающийся над обвесом, как всегда, невозмутим — не берет его качка. С той минуты, как «Гюйс» вчера около семнадцати часов пришел в точку рандеву в северной части Нарвского залива, Толоконников, кажется, и двух слов не вымолвил. Кроме, конечно, тех, что необходимы по службе. Вчера стоял, прямой и долговязый, неотрывно глядя в ту сторону, где закат полнеба окрасил алой кровью, и сегодня, заступив в четыре ноль-ноль на вахту, стоит и смотрит, смотрит, смотрит…
Солнце еще не встало, только позолотило на востоке округлые края облаков. Западная часть горизонта темна. Но свет прибывает с каждой минутой. Поодаль видны силуэты двух морских охотников.
Вверх-вниз, вверх-вниз. Проклятая нескончаемая качка. А «щуки» все нет…
На мостик поднимается капитан третьего ранга Волков.
— Целая ночь прошла, — говорит он густым басом. — Неужто беда случилась?
Толоконников молчит.
— Командир отдыхает?
— Уговорил его отдохнуть, товарищ комдив, — разжал губы Толоконников.
Командир дивизиона этим летом почти все время в море — то на одном тральщике выходит, то на другом, вот и до «Гюйса» черед дошел. Боевую подготовку проверяет Волков на кораблях дивизиона, присматривается к людям — кто на что горазд.
Солнце, еще невидимое, пустило по небу, сквозь облака, золотые стрелы веером.
На полубаке появился боцман Кобыльский — хозяйским глазом посмотрел, хорошо ли держит якорь. Якорь держал хорошо. Боцман заломил мичманку и повернулся было уходить, как вдруг зацепил уголком глаза нечто черное, мелькнувшее в тусклой синеве воды. Вот волной закрыло… Вот опять открылось…
Боцман обомлел: прямо к тральщику подплывала мина.
— Куда смотришь, сигнальщик? — заорал он.
Но уже и Плахоткин увидел, крикнул виновато и запоздало:
— Прямо по носу плавучая мина!
В тот же миг Толоконников колоколами громкого боя поднял на ноги экипаж. А Кобыльский схватил отпорный крюк, оказавшийся под рукой, перелез под леерами за борт и, стоя на привальном брусе, оттолкнул мину. На мостик взбежали Козырев и Балыкин. Козырев готов приказывать, привычно распоряжаться, но сейчас-то судьба «Гюйса» не в его руках. У него побелели пальцы, стиснувшие поручни, когда он увидел…
Мина качнулась, отдаляясь, но тут же волна снова бросила огромный шар с рогами к скуле корабля.
Боцман снова оттолкнул мину. Опасно это — отпорным крюком. Долго ли на такой волне крюку скользнуть по круглому корпусу и смять свинцовый колпак, в котором дремлет взрыв? Кобыльский отбросил отпорник. Нагнувшись ниже к воде, одной рукой держась за леерную стойку, он уперся второй в холодную — смертельно холодную — оболочку мины.
Мертвая тишина на тральщике. Десятки глаз прикованы к руке боцмана, упирающейся в черный шар.
Рука Кобыльского тверда. Медленно, страшно медленно, удерживая мину на расстоянии вытянутой руки, боцман повел ее назад, к корме, ступая по привальному брусу и перехватывая одну за другой леерные стойки. На середине пути застыл: рука согнулась под напором мины… Ах ты ж, черт!.. Всем корпусом, всей мощью напруженной в страшном усилии руки боцман держит мину… Разгибается рука…
Ну, боцман… Еще немного… Еще…
И вот черный шар, отведенный за корму, уплывает, покачиваясь.
На юте Анастасьев помогает боцману подняться на палубу. Кобыльский дышит тяжело, пот заливает загорелое лицо. Он разминает затекшую руку.
— Молодец, боцман! — кричат комендоры, минеры, вся верхняя команда. — Мо-ло-дец!
Козырев, сбежав с мостика, подходит к Кобыльскому, а тот, улыбаясь и еще не справившись с дыханием, говорит громогласно:
— Матросы… и не такие… шарики катали!
— Что? — Козырев засмеялся и вдруг, обняв Кобыльского, поцеловал в губы. — Будешь награжден орденом, боцман.