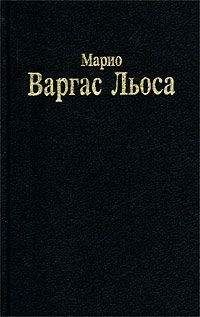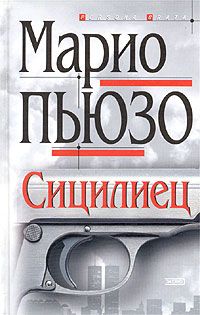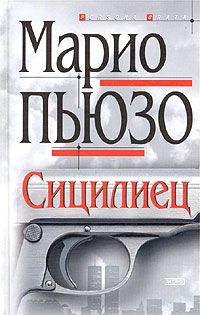Марио Ригони - Избранное
На подходе к Кракову Орландо решил, не останавливаясь, идти через Карпаты дальше, в русские земли, попытать счастья в Киеве, Москве или Санкт — Петербурге, открыв там небольшую торговлю: худо ли бедно, денег он скопил достаточно, ну а земляки, обосновавшиеся в тех далеких городах, рассуждал тезинец, первое время ему, конечно же, помогут. Вечером, прежде чем расстаться, они вволю выпили и закусили в одном краковском трактире, хозяин которого, еврей, вместо денег попросил дать ему гравюру с изображением амстердамского порта.
Обратный путь Тёнле проделал один; так как у него не было ни лицензии на торговлю, ни паспорта, а была только справка об увольнении из ландвера, от больших и малых городов ему приходилось держаться подальше. В Брно он пополнил запас эстампов, попросив другого, встреченного по пути в Богемию тезинца купить их и на его, Тёнле, долю. В деревнях Зальцбурга и Тироля Тёнле распродал все, что у него было, только два эстампа он оставил себе.
Цезарь не залаял, подошел и обнюхал его бумазейные брюки. Запахи ударили ему в нос, однако все были знакомые, и пес приветливо махнул хвостом. На заборе вдоль огорода Тёнле заметил ряд заиндевевших пеленок, но не придал этому значения. Он открыл защелку, толкнул дверь и, ни слова не говоря, вошел в дом.
Его не ждали. Он чуть постоял, прислонившись к каменному косяку, и затворил за собой дверь. Жена и мать замерли с льняной пряжей в руках, старик отец, куривший трубку на скамеечке у огня, поднял голову, вынул изо рта трубку и посмотрел на него. Петар, стругавший бочарные доски в углу под лампой, первый выбежал навстречу, сбросив на ходу целую кучу лиственничных стружек. Тёнле обступили: женщины обнимали и целовали его, но старик сначала подпер дверь ясеневым колом и только потом взял Тёнле под руку и повел поближе к огню, чтобы лучше рассмотреть сына. Все наперебой заговорили, стали засыпать вопросами, не дожидаясь ответа, принимались рассказывать сами обо всем, что случилось за несколько месяцев его отсутствия.
Когда Тёнле был вынужден бежать из дома, жена его еще не знала, что она на втором месяце; девочка родилась недавно, ее уже окрестили, назвали Джованной, сейчас она спит. Малютка лежала в теплой сухой колыбельке на подушке, набитой мякиной, и сосала большой пальчик, чуть слышно посапывая и причмокивая. Тёнле с лампой в руке наклонился над колыбелью, он не стеснялся слез и совсем забыл про ломоть поленты с сыром, который мать вложила ему в ладонь.
Тёнле подсел к огню. Петар подбросил несколько сухих сучьев, стало теплей и светлей.
— Судили заочно, — начал старик, — дали четыре года. Слава богу, тот через месяц поправился. Хотели дать семь. Но адвокат Бишофар хорошо защищал. Взял в свидетели лейтенанта Мальяно. Здесь тебе нельзя показываться. Патрули ходят. Раза три к нам заглядывали. Спрашивали, где ты прячешься.
Но Тёнле хотел услышать, как прошли роды, сколько картофеля собрали, сколько льна, хватит ли дров до конца зимы, почем продали шерсть или в этом году решили не продавать, а наделать пряжи. Хотелось узнать, ходил ли Петар с пастухами, а может, раз он трудится над бочарными досками, он работает теперь у Прудегаров, учится на плотника. Да нет, объяснили ему, к Прудегарам работать Петар не ходил, а плотничать научился сам, благо инструмент у деда есть. Дома, как всегда, полно работы — и плотничать надо, и овец пасти на Мооре; овец в этом году они не отдавали, как все, в общинное стадо, а пасли их здесь же, внизу, на арендованных землях. А Марко уже в первый класс ходит, каждое утро теперь отправляется с соседскими ребятишками в город.
Пока все это рассказывалось, жена смотрела на Тёнле так, будто хотела заглянуть ему в душу; отложила в сторону веретено и крепко держала мужа за руку. Ждала, когда они останутся наедине, чтобы спросить, о чем при людях спрашивать совестно.
Тёнле рассказал о себе, но вкратце, без подробностей; потом чуть–чуть небрежно отстегнул пояс, вспорол его ножом и высыпал на ладонь серебряные гульдены.
— Вот, заработал, — объяснил он. — Продавал гравюры, много стран обошел.
На глазах у всех Тёнле пересчитал деньги: тридцать звонких монет по двадцать крейцеров каждая — кругленькая сумма, почти капитал. Он протянул их жене.
— Возьми–ка, жена, эти цванциги, пригодятся.
Потом достал еще десять гульденов и отдал их, не проронив ни слова, матери.
Снова подошел к колыбельке полюбоваться маленькой Джованной; она безмятежно спала, он протянул было руку, чтобы разбудить и приласкать дочь, но удержался, и рука его застыла, не коснувшись красненького личика. Ему показалось, будто дитя улыбается, и он весь так и просиял.
Идя к очагу, где семья собралась в ожидании новых рассказов, он вдруг вспомнил, что, прежде чем войти в дом, оставил в сенях те два эстампа, которые не стал продавать, потому что они ему самому нравились: он хотел их оправить в раму и повесить на стене, один слева, другой справа над очагом. Тёнле развернул их, чтобы показать при свете.
На первом эстампе было изображено нападение волков на сани ночью в зимней чаще. Кучер без шапки изо всех сил удерживал обезумевших от страха лошадей, вцепившись рукой в поводья. Другой рукой он сжимал кнут, пытаясь отогнать волка, набросившегося на пристяжную; в чаще мерцали красноватыми огоньками налитые кровью глаза хищников. Сзади, среди разбросанных в беспорядке вещей, бородатый мужик стрелял с колена из длинноствольного ружья по настигавшим сани разъяренным волкам. Дуло изрыгало молнию, рассекавшую темноту, и было ясно, что пуля непременно поразит готового впрыгнуть в сани зверя прямо в разверстую пасть! Один уже корчился на дороге, другой чуть поодаль коченел среди сугробов.
Казалось, было слышно ржание лошадей, свист кнута, вой волков, треск выстрела. Картина всех заворожила: сначала ее рассмотрели всю в целом, потом перешли к мельчайшим деталям, следя за пальцем Тёнле.
— Папа, — спросил Марко, — вы были там, где живут волки?
— Я дошел до Карпатских гор, там встречаются волки. Нападают они только зимой, с голоду.
Все замолчали и посмотрели на дверь. Пес во дворе лаял на луну, не на чужого.
Тёнле развернул второй эстамп. Здесь была представлена охота на медведя. Среди лесистых холмов поднялся на дыбы гигантский медведь; передними лапами он отбивался от окружившей его своры собак. Два пса уже впились клыками в исполина, остальные прыгали вокруг или, израненные, валялись на земле; всюду пятна крови — на траве, на шерсти медведя и собак. Охотник бесстрашно потрясал в воздухе огромным ножом, его товарищ целился из ружья, выжидая удобный момент, чтобы нажать спусковой крючок. Безоружный юноша, прижимая к груди собаку, из вспоротого брюха которой сочилась кровь, мчался прочь; обернувшись, он глядел на медведя: выражение лица, перекошенный рот — все внушало зрителю ужас и сострадание.
И этот эстамп они долго рассматривали при свете огня: одних поражала величина медведя, других — смелость собачьей своры, а кого–то — дерзость охотников.
— Я смастерю две отличные рамы, — вызвался Петар. — У меня есть лиственничная доска с сучками–живинками. Картины в них будут смотреться хорошо.
Наконец он в своей постели, рядом жена и двое малышей в колыбельках бок о бок. Холода Тёнле не успел почувствовать, они с женой быстро согрели друг друга. Мороз начертил на окнах причудливые узоры, лунный свет, отражаясь от снега, наполнял комнату нежным рассеянным полумраком и искрился в иголочках инея, выступившего вдоль стен у потолка, так что казалось — лежишь под звездным летним небом. Он любил жену в эту ночь, потом заснул, прикрыв ее грудь ладонью.
С первыми лучами солнца он проснулся под звон праздничных колоколов и под рождественские колядки, с которыми направлялись в город его земляки. Звуки сталкивались в морозном воздухе, пение то нарастало, то снова затихало; слов он, сколько ни напрягал слух, не мог разобрать, но, судя по направлению и силе голосов, Тёнле догадывался: это мужчины пошли из Эбене, а это женщины из Бальда и Прудегара. Он вспомнил, как в детстве тоже ходил и распевал по улицам, а снежок поскрипывал под рифлеными подметками. Он запел про себя вместе с уличным хором, повторяя слова древнего гимна:
Прошло четыре тысячи лет
с тех пор, когда Адам грешил,
и вот пришел он в мир,
……………………..
любимый наш Господь…
Родился в зимний час
он в нищете, под вой метели,
вол и осел его согрели
своим теплом…
О всемогущий боже!
По милости твоей зажжен свет горний,
стоит земная твердь и бьют удары молний,
а ты родился жалким бедняком!..
Колокола стихли. Жена выскользнула из кровати и торопливо оделась: как всегда по утрам, спешила разжечь огонь. Тёнле лежал и прислушивался: Петар с кем–то разговаривал в сенях, открылась и закрылась дверь, засмеялись под окнами, парни и девушки перекликаются друг с другом. Снова запели: