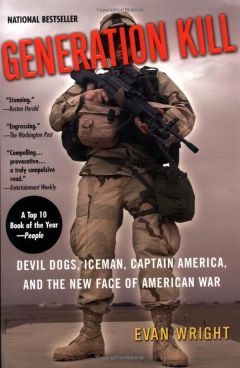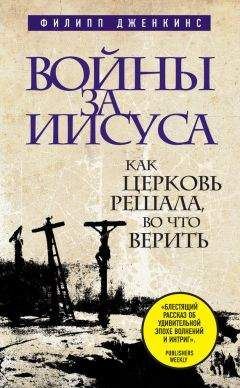Филипп Капуто - Военный слух
Несколько минут спустя полковник, сопровождаемый протоколистом, младшим капралом, записавшим мои ответы на диктофон, ушёл, унося свои бумаги, юридические справочники и диктофон — все эти атрибуты уютной и упорядоченной жизни в штабе дивизии, этого мира законов, которые так просто соблюдать, когда хорошо ешь, хорошо спишь, и когда тебе изо дня в день не угрожает смерть.
А потом мне стало очень плохо, так плохо, что я места себе не находил. Дело было не только в том, что меня терзал призрак обвинения в убийстве, меня терзало ощущение вины. Лёжа в палатке в расположении штаба, я снова увидел глаза того мальчика и укор в их безжизненном взгляде. Возможно, мы и совершили убийство не осознавая этого, почти так же, как Маккенна. Возможно, война пробудила в нас зло — некую тёмную, зловещую силу, которая позволила нам убивать, ничего не ощущая. Хотя… В моём собственном случае «возможно» можно было и опустить. Некое зло было в ту ночь во мне. Правдой было то, что я приказал патрулю по возможности взять в плен тех двоих, но правдой было и то, что я желал их смерти. Жажда убийства была в моём сердце и каким-то образом, тоном, жестом или ударением на «убить», а не на «взять в плен», я передал таящееся во мне озверение подчинённым. В моём чересчур агрессивном поведении они узрели санкцию на выброс собственных зверских побуждений. Я лежал, вспоминая эйфорию, охватившую нас после того как всё случилось, как мы смеялись, и как затем мы вдруг очнулись и почувствовали себя виноватыми. Несмотря на это, я не мог признать, что случившееся было преднамеренным убийством. Оно не было совершено в вакууме. Оно было непосредственным результатом войны. То, что сделали мы, было результатом того, что сделала с нами.
В какой-то момент во время этого самоанализа я понял, что солгал следователю. Я пошёл в палатку офицера по личному составу, вызвал полковника и доложил ему, что хотел бы изменить свои показания и реализовать своё право воспользоваться помощью адвоката. Через какое-то время он вернулся в штаб батальона с Рейдером, высоким рыжеволосым мужчиной лет под тридцать.
— Сэр, — сказал я. — Помните ту часть моих показаний, где я заявил, что не говорил своим подчинённым, чтобы они не меняли своих показаний? В общем, это не так. Запутался я. Можно эту часть убрать и заменить её показаниями, соответствующими истине?
Простите, сказал он, заявление сделано под присягой, и убрать его нельзя. Таков закон. Если я хочу что-нибудь добавить — это пожалуйста, но первоначальные показания останутся в документах. Полковник улыбнулся, весьма довольный собой и непреклонной логикой его драгоценного закона. Вот и ещё одна статья. Я дал другие показания.
Некоторое время спустя у нас с Рейдером состоялась первая из наших продолжительных бесед. Он попросил меня описать всё, что произошло в ту ночь.
— Хорошо, — сказал я. — Но сначала прочитайте вот это. Я это написал, пока ждал вас с полковником.
Я вручил ему эссе об условиях, в которых жилось на линии фронта, написанное высокопарным языком. Там говорилось о том, что в условиях партизанской войны граница между законным и незаконным убийством размыта. Правила стрельбы в зонах открытого огня, когда солдату разрешается стрелять в любого человека, вооружённого или невооружённого, и практика учёта убитых ещё более запутывают систему моральных ценностей человека. Мой патруль отправился на задание, полагая, что идёт за солдатами противника. Что же касается меня, то рассудок мой на самом деле был в возбуждённом состоянии, и способность рассуждать здраво была нарушена, но я ведь пробыл во Вьетнаме одиннадцать месяцев…
Рейдер смял мои литературные бредни и сказал: «Полная бессмыслица, Фил».
— Почему же? По-моему, разумно.
— А военно-полевому суду всё равно.
— Но почему же? Бог ты мой, мы ведь не в Лос-Анджелесе их убили.
В ответ Рейдер прочёл мне лекцию о том, в чём заключается правда жизни. Я не помню уже, что именно он тогда мне сказал, но именно он первым дал мне понять, что при объяснении причин тех убийств нельзя ссылаться на войну, потому что при этом возникнет слишком много неудобных вопросов. И обвинения действительно будут предъявляться нам так же, как если бы мы убили обоих человек на улицах Лос-Анжелеса. Рассмотрение дела будет основываться строго на фактах: кто, что и кому сказал, что было сделано, и кто это сделал. Как в детективном романе. Рейдер сказал, что ему нужны только факты. И никакой философии.
— Вы приказывали своим подчинённым убить тех двух вьетнамцев? — спросил он.
— Вы им как сказали: взять их в плен, или сначала стрелять, а разбираться после?
— Никак нет. Они должны были взять их в плен, при необходимости — убить. Но вот в чём дело: я, должно быть, дал им понять, что буду не против, если они их просто убьют. Джим, я в тот вечер не в себе был.
— Не надо пытаться заявлять о состоянии аффекта. Для него есть юридическое определение, и если вы на стенки не кидались, к вам оно применено не будет.
— А я и не говорю, что был тогда не в себе. Я говорю о том, что вымотан был чертовски. И мне было страшно. Признаю, чёрт побери! Мне было страшно, что напорюсь на какую-нибудь их тех проклятых мин, если чего-нибудь не сделаю. Надо ж понимать, как там себя чувствуешь, когда нет уверенности в том, что через минуту не раздастся взрыв, и ты не отправишься на небеса.
— Да поймите же — военно-полевому суду всё равно, как там себя чувствуешь. Надо же это понять! Вы же не роман пишете, страсти нагнетать здесь ни к чему. Не пожалуйся эти селяне — ничего бы и не случилось. Но они пожаловались, и потому началось расследование. А сейчас машина запущена и не остановится, пока не дойдёт до самого конца. Ладно. Кто-нибудь слышал, как вы инструктировали патрульную группу?
— Да, там были ещё сержант Коффелл и взводный сержант.
— Итак, другими словами, вы приказали по возможности взять в плен, при необходимости убить, как-то в этом смысле. Именно это вы и сказали, и есть два свидетеля, которые могут подтвердить ваши слова. Так?
— Так я и сказал. Не уверен, что я сам верил тому, что говорил. У меня в тот вечер такое настроение было… Вроде как зверское…
— Настроения недопустимы в качестве доказательств. Ваше душевное состояние меня не волнует. Приказывали вы своим подчинённым совершить убийство или нет — вот что важно.
— Чёрт побери, Джим! Всё опять возвращается к войне. Я бы их туда не послал, и они никогда бы не сделали того, что сделали, когда б не эта война. Это вонючая война, и вонь эта со временем к человеку пристаёт.
— Перестаньте, бога ради. Если вы приказали совершить убийство, то скажите об этом прямо сейчас. Можете признать себя виновным, и я попытаюсь сделать так, чтобы суд вынес лёгкий приговор — лет этак от десяти до двадцати в Портсмуте.
— Я так скажу: мне жизнь будет не в радость, если тех парней осудят, а я отмажусь.
— Вы хотите признаться виновным в убийстве?
— А почему вы спрашиваете?
— Потому что там не было убийства. Что угодно было, только не убийство. И если это — убийство, то половину вьетнамцев, погибших в ходе этой войны, именно убили.
— Не так. Вы не хотите признать себя виновным, потому что не виновны в том, что вам вменяют. Вы не приказывали совершить убийство.
— Ладно, я невиновен.
— В общем, имеем следующее: вы приказали патрульной группе захватить двух человек, подозреваемых в принадлежности к Вьетконгу, которых надо было убить только при необходимости. В боевой обстановке это является законным приказом. И есть два сержанта, которые подтвердят эти заявления, так?
— Вы тут главный. Будь по-вашему. Главное, меня из этого всего вытащите.
— А вот этого «вы тут главный» не надо. Вышесказанное — факты или нет?
— Так точно, факты.
И так я узнал о широкой пропасти, лежащей между фактами и истиной. В течение последовавших пяти месяцев мы с Рейдером провели дюжину подобных совещаний. Называлось это «подготовка свидетельских показаний». И с каждой нашей встречей моё восхищение юридической квалификацией Рейдера только возрастало. Он готовил моё дело к слушанию в суде целеустремлённо и деловито, как командир батальона при подготовке наступления на занятую противником высоту. Через какое-то время он почти убедил меня в том, что в ту ночь, когда были совершены те убийства, первый лейтенант Филип Капуто, в ясном состоянии рассудка, отдал недвусмысленный законный приказ, который его подчинённые грубо нарушили. Я был восхищён показаниями, которые родились в результате наших диалогов, подобных сократовским. Рейдер занёс всё на жёлтые линованные листы своих блокнотов, и я убедился в том, что там не было ни единого слова неправды. Там периодически встречались оговорки — «насколько я помню», «если я верно помню», «или что-то в этом роде» — но там не было ни единого лживого заявления. Но и правдой это не являлось. Адвокаты рядовых и сержантов, в свою очередь, убедили их, что все они были порядочными, богобоязненными солдатами, которые исполняли приказы так, как положено порядочным солдатам, а приказы эти были отданы непорядочным офицером-душегубом. И это не было ни ложью, ни правдой. Тем временем и обвинение подбирало факты в поддержку своих утверждений о том, что пятеро преступников, морских пехотинцев, исполняя противозаконные приказы своего командира взвода, тоже преступника, хладнокровно совершили убийство двоих гражданских лиц, которых затем пытались выдать за установленных вьетконговцев, дабы получить от своего начальника, капитана, поощрение, обещанное им за убитых солдат противника, что является предосудительной практикой, которая никоим образом не соответствует традициям корпуса морской пехоты США. И это не было ни ложью, ни правдой. Ни одно из этих показаний, ни одно из этих собраний «фактов» не показывали истинной картины. Истина была синтезом всех трёх точек зрения: война в целом и практика ведения военных действий Соединёнными Штатами в частности — вот что нужно было винить за гибель Ле Ду и Ле Дунга. Истина лежала в этом, и всё, что делалось, делалось ради того, чтобы эту истину сокрыть.