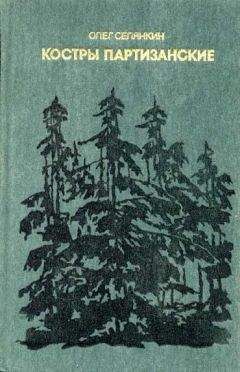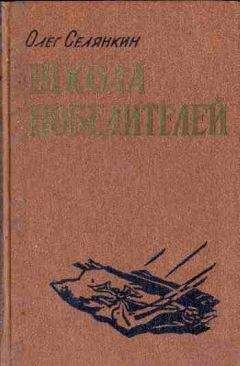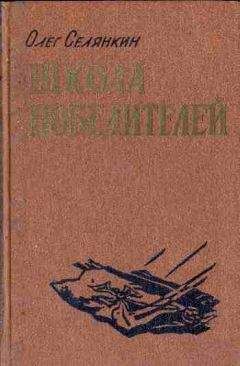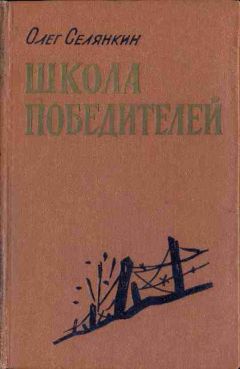Олег Селянкин - Костры партизанские. Книга 2
Всю дорогу молча ехал Василий Иванович, только увидев людей, разгребавших снег, приказал:
— Заранее скажи, когда ваших увидишь.
— Они самыми крайними будут, — ответила Ольга, зябко спрятав подбородок в облезлый воротник шубейки.
Действительно, когда цепочка людей из Степанкова уже оборвалась, сразу же за поворотом дороги, где мохнатые лапы елей почти нависли над ней, копошились в снегу еще шесть человек — четыре мужика и две женщины. По внешнему виду — самые обыкновенные мужики и бабы. И работали они в том же темпе, что и все прочие, невидимые отсюда.
Хотелось перекинуться с ними хотя бы несколькими словами, но он понимал, что это недопустимо, что вообще каждая минута промедления может оказаться роковой и для него, и для Ольги, и для всех этих неизвестных и таких близких ему людей. И Василий Иванович только придержал лошадь, когда поравнялся с ними. Тотчас двое бородатых мужиков склонились над санями, а еще через несколько секунд один из них сказал:
— Спасибо.
Василий Иванович, даже не оглянувшись на голос, чмокнул губами, шевельнул вожжами, и лошадь послушно затрусила дальше. Но краешком глаза он все же заметил, что больного на каком-то подобии волокуши утянули в лес, что теперь уже только четыре человека работали на дороге, скидывая с нее снег на след волокуши.
Хотя и бывал Василий Иванович в этой деревне, но все равно какой уже раз подумал, что наши предки церкви ставили с большим умом — на самом видном месте, и такие, чтобы сразу глаз приманивали. Вот и эта стояла на небольшом взгорке, словно раздвинув или собрав вокруг себя березы, на закуржавевших ветках которых черными шапками торчали грачиные гнезда.
В самом центре деревни у коновязи остановился Василий Иванович. И сразу к нему подбежал местный староста, помог из саней выбраться, и даже лошади охапку сена бросил.
Василий Иванович ограничился благосклонным кивком.
— Мне можно идти, дядечка Опанас? — робко спросила Ольга.
— С богом.
И она присоединилась к трем местным женщинам, вместе с ними скрылась в черном проеме церковной двери. А пан Шапочник выждал несколько минут, сверля глазами кланяющихся ему людей, потом степенно зашагал, но не к церкви, как предупреждали старосту, а к деревенскому кладбищу.
С чего его сюда потянуло? Оно не хуже и не лучше, чем во всех других деревнях…
Вдруг пан Шапочник так резко остановился, словно налетел на какое-то препятствие. Староста деревни чуть подался вперед, чтобы поскорее увидеть то, что остановило пана Шапочника, и окостенел от ужаса: на одной из пирамидок, которые вместо крестов стояли на трех могилах местных учительниц, убитых еще в день появления здесь фашистов, явственно просматривалась маленькая звездочка. Староста был готов поклясться чем угодно, что никогда раньше не видел ее, что не было ее здесь и месяцев шесть назад… Или летом березы своей листвой ту неокрашенную звездочку от глаз людских прятали?
Самое же главное, самое страшное — была она раньше или сегодняшней ночью появилась, — в строгом ответе один он, староста данной деревни. Вот и замер, боясь не только слово сказать, но и вздох настоящий сделать.
Однако пан Шапочник ничего не сказал. Лишь недобро покосился на старосту и без торопливости вернулся к саням, почти упал в них, разобрал вожжи и терпеливо дождался, пока староста непослушными пальцами отвязал лошадь. Без понуканий и тронул ее с места, повернул на дорогу, которая вела в Степанково.
Золотаря удивило столь раннее возвращение пана Шапочника, но еще больше то, что, бросив лошадь около полиции, он ушел домой и даже не выглянул оттуда. Любопытство так и подкалывало: дескать, зайди к нему и спроси, удачной ли была поездка, но он все же смог воздержаться от этого. За что не счесть сколько раз и воздал хвалу сам себе, когда прибыл первый гонец и выложил все о той треклятой звездочке, о безмолвной ярости, с какой пан начальник полиции глянул на старосту деревни; если верить гонцу, в такое негодование пришел пан Шапочник, что и в церковь не заглянул, что и племянницу свою, словом не предупредив, там бросил!
А потом и Генка подлил масла в огонь. Он заглянул в дверь (заходить в кабинет отказался, стервец!) и просипел от порога:
— Продашь — отопрусь! И такое про тебя выложу, что не возрадуешься!
Последние слова — то ли забывшись, то ли не совладав с собой — в полный голос сказал и исчез, будто и не было его вовсе.
Может, все же сходить к пану Шапочнику, так сказать, вызвать на разговор? А если свирепеть за звездочку станет, то прямо и ляпнуть: мол, это наше общее с вами упущение?
До ночи затянул Золотарь принятие решения, все взвешивал, что лично для него выгоднее. А тут и заявился пан Шапочник. Не к себе в кабинет, а к нему, Золотарю. Кожуха не расстегнул, шапки не снял, не присел, а просто остановился у стола. Пришлось встать и ему, Золотарю. Тут и сказал пан Шапочник, сказал внятно, с достаточными паузами между словами:
— Вот что, друг ситный…
— Так шести, а не пятиугольная та звездочка была! — сунулся тут Золотарь, как казалось ему, с облегчающим объяснением.
— Значит, иудея вместе с православными, в одном ряду похоронили? — как-то нехорошо усмехнулся Шапочник. — То-то обрадуется пан Власик, когда поставлю его в известность об этом. — Тут он согнал усмешку с лица и врезал на полном серьезе, врезал с беспощадной злостью: — Слежку за мной установил? Интересуешься, куда и зачем начальник полиции ездит? Так вот, докладываю, пан Золотарь: к той самой звездочке ездил, чтобы собственными глазами проверить поступившие сведения. От кого поступившие? От племянницы. Или, думаешь, она просто так, от нечего делать, в церковь и прочие места шастала?.. А что ты по всей той деревне и в церкви полицейских понатыкал… Такого невежества в сыске я даже от тебя не ожидал!
Сказал это и вышел, хрястнув дверью.
13Еще недавно излишне говорлив и даже шумлив был Григорий. Когда остепенился — этого Каргин не заметил. Теперь, казалось Каргину, поубавить бы Григорию еще и упрямства — вовсе что надо командиром группы стал бы; может быть, и выше. Но упрямство… Уж если что втемяшилось в его голову, никакими разумными доводами этого быстро не выбьешь. Взять, к примеру, те же Выселки. Ведь когда на них последний налет совершили? Еще в прошлом году! А Григорий все помнит те кучи хвороста, которые грудились перед бункерами полицаев, он все еще плачется на то, что тогда Каргин запретил ему задержаться там на одну ночку и лишил возможности предать огню вражескую ловушку. Изо дня в день долбил в одну точку, при каждом удобном случае то требовал, то канючил, дескать, разреши еще разок туда наведаться. И вчера Каргин вроде бы сдался:
— Черт с тобой, иди! Но если людей своих угробишь…
Он не сказал, что будет тогда, но Григорий и сам прекрасно знал, что подобные ошибки в бригаде не прощаются. Он только спросил:
— Как считаешь, всей моей группе идти? С одной стороны, так поступить следует, с другой…
— Хоть с той, хоть с этой — одинаково хреново получается! — перебил его Каргин. — Велика ли вся твоя группа? Двенадцать душ! Подумаешь, сила! Да ее, если хочешь знать…
Он не докончил свою мысль, словно поперхнулся словами, которые чуть не сорвались с языка; жадно сделал несколько глубоких затяжек, прикрыв глаза то ли от едкого дыма самосада, то ли для того, чтобы не выдать своих тайных мыслей. Помолчал и добавил:
— Возьмешь половину своих, да я человек двадцать в помощь дам — вот и ладно будет.
Теперь, когда долгожданное разрешение было получено, на Григория снизошло умиротворение, он вроде бы даже осудил себя за недавнюю настырность, вроде бы даже на попятный пошел:
— Ты, Иван, если я зарываюсь, не потакай мне, считаешь дело гиблым — так и скажи, не виляй.
Мария, которая во время этого разговора тихой мышкой сновала около топившейся печи, сразу же заметила, как окаменело лицо Каргина, как злые желваки заходили по его скулам, и подошла к нему, обняла со спины, навалившись на него, сидящего, всем своим горячим телом.
— Гриша, разве ты его не знаешь? Когда это было такое, чтобы он людей на гиблое дело занаряжал?
Понял Григорий, что сказанул вовсе не то, что надо было, и рад был этой подмоге, благодарно взглянул на Марию. Каргин заметил этот взгляд, какое-то время еще сидел насупившись, обуздывая себя, потом сказал:
— За эти слова тебя надо бы по шее, по шее!
Вроде бы и отругал, но голосом спокойным, даже теплым каким-то. А еще немного погодя, когда Мария поставила на стол чугунок с картошкой, исходившей ароматным паром, Иван и вовсе отошел, окончательно оттаял, даже пояснил, почему именно сегодня дал разрешение на выход:
— Убрать те бункера надо. И стрелки станции так изуродовать, чтобы гитлеряки еще подумали, прежде чем восстанавливать их стали… Шибко надо сделать это сейчас, потому и отпускаю тебя.