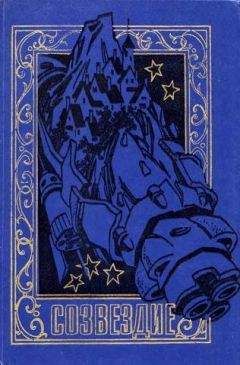Александр Бологов - Один день солнца (сборник)
И она вдруг поняла, что вот так, как сейчас, внимательно и как-то невесело, он уже смотрел на нее не раз, — и на уроках, когда она отвечала у доски и сталкивалась с ним глазами, и в раздевалке, и во время дежурства по школе, и на вечерах, где она неизменно царила в самой гуще веселья, а он сидел где-нибудь около стены и покачивал головой в такт песням Аллы Пугачевой или Карела Готта. Это был взгляд жуткого интереса — она-то уж знала…
— Пойдем в лес, — сказала она, подойдя к нему. Он тоже успел сделать несколько шагов ей навстречу.
— В лес?
— Да. Побродим… А то зима уходит…
Он, конечно же, не ожидал такого. Он и одет был неподходяще. Главное, нужно было бы другую обувь…
Но ей уже было не остановиться.
— Ты был в Соснове?
Он кивнул и оглянулся — опять так, будто хотел удостовериться, что черноволосый парень с магнитофоном ушел. «Он его видел, конечно», — решила Золотова.
— Это Игорь Карпович, в прошлом году кончил нашу школу. Теперь в политехе…
— Ты этого хочешь?
— Чего?
— Чтобы мы поехали в лес?
— Разве бы иначе я предложила?
Так они оказались в лесу.
Снег был уже вязким и тяжелым; около деревьев, от их тепла, он подтаял, осел кольцами. Но жизнь в лесу еще не пробудилась — деревья стояли голые, молчаливые; изредка поскрипывали ветки, и еще реже, как срывающиеся тени, пролетали в стороне какие-то птицы.
Сначала они шли по тропинке, достаточно широкой, чтобы можно было идти рядом, то и дело касаясь друг друга плечом. Но всякий раз как это происходило, он тотчас подавался в сторону, оступался с дорожки и проваливался в ноздреватый снег. Вскоре и тропинка кончилась, и они двинулись по лыжне — оплывшей, заледенелой, уже, видимо, оставленной лыжниками.
— Завтра побежишь? — спросила она, имея в виду предстоящие соревнования. — Закрытие сезона…
— От класса по восемь человек. Ты ведь тоже?
— Да. По такому льду обдерешь свои финские.
— Я-то?
— Да.
— Наверно…
Лыжи у него действительно были отменные. Когда он впервые принес их в школу, все ребята потрогали их, прикинули вес, погладили руками поверхности скольжения. Но бегал он не быстрее всех в школе, — его «специальностью» в самом деле были шашки.
Потом она вернулась к разговору, который они начали еще в автобусе:
— А когда ты был здесь?
— Еще осенью, сразу как мы приехали. — Он поднял голову к верхушкам деревьев. — Тут было какое-то чудо. Там, где мы жили, такое и во сне не снилось…
Странно, но его слова «там» и «здесь» она приняла почему-то и на свой счет: «там» ее не было, она — «здесь», идет рядом с ним. Может быть, она уловила это в его голосе?
— А ты и одна сюда ходишь? — спросил он. Вернее, даже не спросил, была иная интонация; он как бы просто отметил это.
А она, словно по инерции, произнесла:
— Да.
Он тряхнул головой — дескать, понятно; а она, вытянув до упора руки в карманах, поежилась: «Поверил, ведь правда поверил…»
Он шел впереди — уже лыжня терялась под ногами — и, чтобы слышать ее, вынужден был то и дело оборачиваться. Крупная голова, на ней громадная шапка качались на длинной шее, как на ветке. Из кармана торчала цветная капроновая сумка, — с нею в руках он и встретился ей на автобусной остановке. Скорее всего, направлялся в магазин. Уже в автобусе свернул ее и засунул в карман, и сделал это без раздумий, быстро, не прерывая какой-то начатой фразы.
— Что у тебя за шапка? — спросила она.
— Зверь?
— Да.
— Росомаха.
— О-о!..
— А ты видела их когда-нибудь?
— Нет. Кажется, нет… А ты?
— Убитую.
Она рассмеялась и, когда он снова обернулся, показала рукой:
— Вот эту самую?
— Нет. — Он тоже вроде бы улыбался.
Вообще, он был все-таки до смешного серьезен. В самом деле. Она даже не знала, о чем с ним говорить. Сам он, не проявляй она инициативы, так и шагал бы рядом, не раскрывая рта. Это точно.
— А зачем у тебя сумка?
Он решил, что его разглядывают, и сделал шаг в сторону — вновь, конечно, пробив наст и утонув в снегу, — и подождал, пока она не выйдет вперед. Она согласно пожала плечами: «Пожалуйста!..»— и пошла впереди.
— Я собирался в магазин.
— За молоком?
— Около остановки булочная, а не гастроном.
— А я думала, ты шел за мной следом и следил, куда я иду…
— Не совсем…
— Ах, значит, все-таки следил?
— Я просто тебя увидел.
— А дома ждут к обеду хлеб…
Он ничего не ответил. А мог бы, допустим, сказать «нет, не ждут», и что никакой жертвы с его стороны нет…
— Шел в комнату, попал в другую?
— Гм…
— Ты мог бы сказать мне об этом, я бы съездила сюда и одна.
— Да что тебе дался мой хлеб?
— Его же ждут?
— Ну и что?
— А ты уехал. Почему?
Она опустила голову — не стоило бы, пожалуй, задавать ему такого вопроса. Замедлив шаг, ждала, что он скажет.
— Ты хотела бы услышать что-нибудь неожиданное?
— Я хочу услышать то, что ты скажешь…
— Отчего я поехал?
— Да.
— Ты хотела, чтобы я поехал?
— Допустим… То есть да.
— Этого было достаточно.
Она на мгновение замедлила шаг. «Мамочки!.. Он же объясняется! Неумело, примитивно, но объясняется…»
— Я хочу сказать, — она обернулась и внимательно поглядела на него, — что мы ведь не договаривались заранее и ты мог совершенно спокойно отказаться. Другое дело, если бы мы договорились…
— Разве это имеет значение?
На последние слова она не нашлась что ответить, и некоторое время они шли молча. И она чувствовала на себе острый взгляд и несла голову, как носят букет цветов. А он в самом деле не отрывал от нее глаз — словно касался ее невидимыми руками и поддерживал на каждом легком шаге, плавно поднимая над тропинкой…
Она услышала, что он снова провалился сквозь наст, и обернулась, он развел руками — в ботинках скользко! — и подпрыгнул, пытаясь отряхнуться.
— Постой, — сказала она и приблизилась. — Разуйся. Я тебя буду держать, а ты вытряхивай все, что набралось.
— Я могу сесть, — сказал он, собираясь опуститься.
— Не смеши. Зачем садиться на лед…
Он послушался. Но шнурки никак не развязывались; поддерживаемый за рукав, он возился с ними, балансируя на одной ноге. В наступавших сумерках она сумела рассмотреть его носки — с темными мокрыми разводами — и ужаснулась, притронувшись к ногам, и наобещала ему назавтра простуду, а пока предложила растереть ноги шерстяными рукавичками.
Он ответил ее привычным:
— Не смеши.
— Вот человек! Ты не мог бы еще надеть что-нибудь полегче этой куртки?
Он чуть было не брякнул, что вообще не собирался в куртке в такие дебри, но вовремя прикусил язык и весело — для него во всяком случае, — отозвался:
— Такие куртки носят за Полярным кругом.
— Летом, — сказала она, оставляя его рукав, за который держалась, пока он справлялся со снегом.
У него и руки были холодные — она коснулась их, когда, сбросив варежки, трогала ноги и предлагала снять носки и растереться. Он, оказывается, весь продрог — от рук до пяток; ей даже было немножко смешно, ей трудно было это представить — в мягком пальто, тугих валенках, свитере и шапочке ей было свободно, уютно и тепло. А он продрог; горячей, верно, оставалась одна голова — под росомахой…
— Мы далеко зашли, — сказала она, оглядываясь вокруг, — надо идти назад. И прибавим шагу.
— Давай прибавим.
Он стоял, расставив ноги, посреди дороги и дышал на руки. Нужно было возвращаться, и она, руки в карманах, двинулась прямо на него.
Он хотел посторониться, но она остановилась и, засунув варежки за пазуху, взялась за его руки — большие и озябшие.
— А у меня все горит, — сказала она, согревая его руки своими, — все-все.
— Это несправедливо, — отозвался он, дрожа. Ему было неловко, что он так остыл.
— Представляешь, губы просто пылают… Дотронься…
Она подняла подбородок и приоткрыла рот, и напрягла икры, чтобы в следующее мгновение привстать и податься вперед. А он высвободил одну руку и, еще не веря в происходящее, расправил пальцы и осторожно, как огонь или больную рану, тронул мягкие, почти неощутимые губы…
Ее маленькое прекрасное лицо было так близко, что он чувствовал, как она дышит. Небольшие синие, очень чистые глаза светились весельем и любопытством, они были чуть прищурены, и ресницы — такие же плавные, правильные, как и брови, — едва заметно подрагивали.
Пальцы его дрожали. Они были как лед. Она шевельнула губами и покачала головой, приподнялась на носки. Немигающий взгляд не отрывался от его потерявших твердость и ясность глаз. И он наклонился и прикоснулся губами к ее полуоткрытому рту — приник к нему, как новичок, как ребенок; так приникают к руке или голове, когда целуют в волосы. И она вдруг обняла его за шею и отчаянно — словно вошла острой иглой — припала к губам…