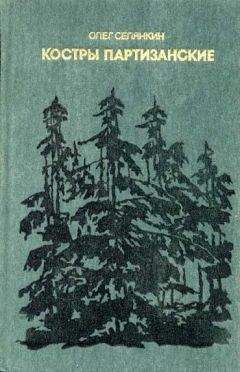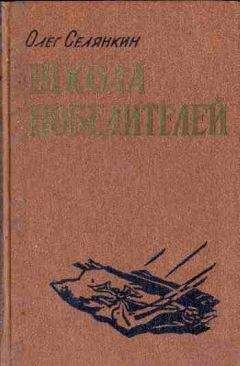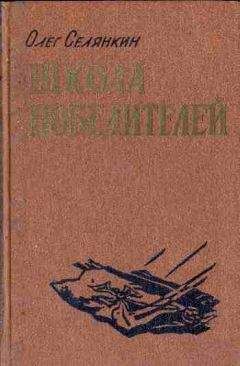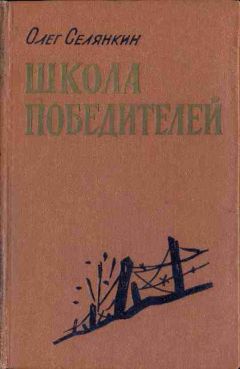Олег Селянкин - Костры партизанские. Книга 1
Разговор оборвался. Фон Зигель неторопливо курил, стряхивая пепел в морскую раковину-пепельницу. Он думал о том, что этот русский гораздо сильнее и хитрее, чем казалось; такого не возьмешь одними посулами, такого нужно крепко ломать.
Что ж, наука не новая. Ломать человека во много раз проще, чем создавать.
Глаза фон Зигеля стали и вовсе холоднущими, когда он спросил:
— Какой местности вы уроженец?
— Из Вольска. Есть такой город на Волге.
— Как велика ваша семья?
— Мать и сестренка.
— Жили в достатке?
— В тридцатые годы трудновато приходилось. А перед самой войной жизнь пошла.
— Ваша фамилия?
— Иванов… Иван Иванович Иванов.
Фон Зигель выдвинул ящик письменного стола и достал пачку фотографий, протянул ее:
— Эти люди были вашими солдатами?
Одиннадцать фотографий в руках капитана Кулика. Одиннадцать мертвых лиц перед глазами капитана. И молодых людей, и в годах.
От внутреннего холода на мгновение зашлось сердце.
— Только вот эти три, — наконец сказал капитан Кулик и бережно, будто боясь причинить им боль, положил фотографии на стол.
Фон Зигель, казалось, не обратил внимания на его слова, даже не взглянул на фотографии опознанных. Он спросил равнодушно:
— Сколько всего человек было в вашем отряде?
— Эти трое и я, — ответил Кулик и сразу понял, что соврал грубо и за это придется расплачиваться.
— Вы солгали, капитан. Почему? — действительно немедленно уцепился фон Зигель.
— А как бы вы на моем месте поступили? — разозлился капитан Кулик.
— Я? На вашем месте?
И фон Зигель захохотал.
Он хохотал долго, а капитан Кулик наливался злобой, пока не выпалил, нагнувшись вперед, пока не выпалил прямо в разинутый в хохоте рот гауптмана:
— Смеетесь? Не верите в такую возможность? А мое сердце чует, что попадете! Да еще как!
Фон Зигель оборвал хохот, с минуту леденяще смотрел на Кулика, потом многозначительно усмехнулся и положил руку на спинку стула. Казалось, он не подал сигнала, но дверь кабинета чуть слышно скрипнула, и кто-то, тяжело ступая, подошел, встал за спиной Кулика. Ему стало зябко, захотелось оглянуться, но он пересилил себя и спросил, нагнетая в себе злобу, чтобы она вытравила и страх, и жалость к своему телу:
— Значит, разговоры о гуманности побоку? Значит, обрабатывать начинаете?
6Одиночка — каменный мешок с тонкими кирпичными боковыми стенками. Пол бетонный, и от него исходит могильный холод. Ни одного хотя бы даже слабого лучика света. Зато хорошо слышно, как в соседних камерах стонут люди. Судя по голосам — мужчины и женщины.
Особенно невыносим тот самый женский голос. Он на одной ноте тянет бесконечное «а», потом захлебывается в слезах и снова вдруг пронзительно врывается не в уши, а в самое сердце.
Капитан Кулик очнулся, казалось, от этого страшного крика. Несколько секунд лежал неподвижно, пытаясь вспомнить, как попал сюда. Но нить воспоминаний неизменно рвалась в тот момент, когда немец с лошадиным лицом взмахнул дубинкой над его головой. После этого — обрывки: он захлебывается в водопаде, вот-вот утонет, и тут в глазах светлеет, и он видит, что не водопад это вовсе, а самая обыкновенная вода, которую льют на него из ведра; были еще тупоносые сапоги на толстой подошве. У самого лица были… И еще была какая-то табуретка. Как в больнице, белилами покрашенная…
Болело все тело. Так болело, что страшно шевельнуться. Но он, сдерживая стоны, поднялся на четвереньки и пополз, чтобы отыскать лежанку или хотя бы клок соломы, хотя бы — тряпочку завалящую: все не так пронзителен будет холод бетонного пола.
Каждый сантиметр пола ощупал руками — ничего нет.
Тогда, присев в углу, осторожно прошелся пальцами по голове, лицу.
На голове — валик синяка. Там, где легла дубинка. А лицо распухло и очень липкое; похоже, кровь запеклась.
А женский голос не стихает, рвет душу…
Чтобы не вслушиваться в него, капитан Кулик стал опять припоминать все мельчайшие подробности допроса: не сболтнул ли лишнего, не опозорился ли как командир в глазах очкастого.
Ничего такого вроде бы не случилось. И сразу стало намного легче: выходит, не доставил врагу особой радости!
Вдруг щелкнул замок, скрипнули петли двери, и почти сразу в глаза ударил сноп яркого света.
— Ком!
Не показать бы, как страшен новый допрос…
Вот и кабинет коменданта. За столом, как и в прошлый раз, сидит фон Зигель.
— Как вам удобнее: сидеть или лежать?
В голосе коменданта издевка, она рождает волну гордости, протеста, и капитан Кулик отвечает, изо всех сил стараясь казаться как можно спокойнее, даже безразличнее:
— И сидеть, и лежать могу.
Фон Зигель удивленно сверкнул стеклами очков. Но голос его прозвучал по-прежнему ровно и по-прежнему с издевкой:
— Тогда мы посадим вас вон на ту, знакомую вам, табуретку.
Капитан Кулик сразу узнал ее. Именно на нее его усаживали каждый раз, как только в его глазах появлялись проблески жизни. Усаживали для того, чтобы сразу же ударом сбросить на пол.
Табуретка, покрашенная белилами, как в больнице…
— Ваша фамилия?
— Я уже сказал: Иванов, Иван Иванович Иванов.
— Капитан?
— Да.
— Парашютист? Командир группы?
— Точно.
— Кто и зачем послал вас в наш тыл?
— Наше командование. Чтобы этот склад бензина взорвать.
— Напоминаю: то, что было в прошлый раз, — лишь задаток. Не лучше ли заговорить сейчас, пока еще не отбиты легкие и печень, пока все кости целы?
Капитан Кулик промолчал. Тогда фон Зигель повысил голос:
— Я не настолько глуп, чтобы поверить, будто вас заслали сюда из-за этих тридцати тонн бензина. Они так, между делом… Ваша основная цель? Ну?
Капитан Кулик боялся новых пыток и поэтому решил грубить, решил вести себя так, чтобы этот фашист, психанув, выстрелил в него и убил. Сразу, одним выстрелом. И он ответил:
— Не запряг, а уже нукаешь!
— Вы уверены, что все выдержите? — даже весело спросил комендант.
— Орать, конечно, буду. А язык распускать — не дождетесь.
— Значит, вы предпочитаете умереть, но не выдать военную тайну? Неужели вы все еще надеетесь остаться чистым в глазах ваших сослуживцев, родных и знакомых?
Фон Зигель достал из ящика стола незаклеенный конверт, бросил его на колени капитана Кулика и сказал строго:
— Посмотрите внимательно и оцените нашу работу.
В конверте лежало несколько фотографий. Капитан Кулик достал их, глянул мельком, и будто на мгновение все заледенело в нем: на каждой фотографии был он, капитан Кулик. Не в крови и синяках, а умытый, причесанный.
Вот около его кровати стоят немецкие офицеры и ласково улыбаются, глядя на то, как он ест…
А здесь он положил руку на плечо немецкого солдата. Будто дружески обнял его…
Шесть подобных фотографий изготовили немцы, а сколько смогут еще?
Любая из них — явное доказательство его измены…
А вот и листовка — мнимое его письмо к недавним однополчанам…
— Ну как, нравится? — торжествует фон Зигель. — У вас, советских, есть такое выражение — агитплакат. Вот он, готов!.. Да от вас мать родная откажется, если мы захотим!
Мать… Капитан Кулик (а тогда Егорка Кулик) схоронил ее в голодном двадцатом году. И сестры у него не было. Жены — тоже. Любил он Красную Армию, которую не мыслил без уставов, без железной дисциплины; любил потому, что она, Красная Армия, в его представлении была мощнейшим щитом, прикрывающим свой народ от всяких там капиталистов-империалистов. Он действительно был беспартийным, но партию и все ее дела и планы чтил, как святыню. И вот партия, когда он был еще юнцом, бросила клич: «Крепи оборонную мощь страны!»
До самой глубины сердца дошел этот призыв. Потому и остался в армии, как думал, пожизненно.
Месяцы войны прокричали ему, что не все правильно было в его прошлой работе как одного из командиров Красной Армии. Вот и Каргина проморгал. А какой бы из него отделенный, даже взводный получился! Не удивился бы капитан Кулик, если бы его за все прошлые промахи в рядовые разжаловали. Чтобы опять с самых низов начал познавать воинские премудрости. Но картина, нарисованная ему сейчас фон Зигелем, — листовка, которую, может быть, увидят те, кто знавал его, и их общее единодушное презрение, — была настолько невероятно чудовищной, что капитан Кулик онемел на некоторое время. Сидел, смотрел на листовку и не мог вымолвить ни слова.
Его душевное состояние, разумеется, не ускользнуло от фон Зигеля. Он самодовольно скрестил на груди руки и улыбнулся. Только улыбнулся, а в душе капитана Кулика закипела, поднялась к горлу злоба, и он крикнул прямо в лицо коменданту:
— Чего скалишься, чего?.. Это даже очень хорошо получится, если ты эту пакость через фронт забросишь: наши поймут, что в твоих я лапах, значит, на мое задание другой пойдет!