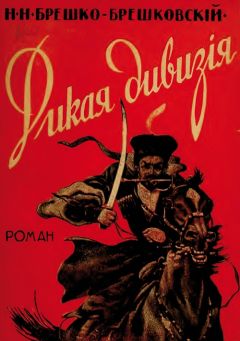Николай Брешко-Брешковский - Когда рушатся троны...
— Вы издеваетесь надо мной? — с усилием вымолвил уничтоженный Мусманек.
— Послушайте, мне надоела вся эта канитель! — воскликнул в раздражении Ячин. — Столярным клеем вас приклеили к дворцу, что ли? Скажите, что лучше, — частный человек с миллионами где-нибудь в Париже или президент, болтающийся на веревке? Или, или — выбора нет. Штамбаров дает вам двадцать четыре часа… Уезжайте на королевской яхте в Трансмонтанию под видом морской прогулки…
— Спасибо вам, гражданин! Вы посылаете меня на верную смерть. Грех вам! — взмолился Мусманек.
— Почему на верную смерть?
— Да потому, что где-нибудь в открытом море этот разбойник Друди пустит ко дну и яхту, и нас вместе с ней.
— Ах, Друди… Вы, пожалуй, правы. Этот неуловимый пират наделал нам много хлопот и гадостей. Мы бессильны бороться с ним на море. Специалисты говорят, что у него какая-то особенная подводная лодка, — последнее слово техники… Что ж, в таком случае к вашим услугам железная дорога или же, еще лучше, — автомобиль. Багаж берите с собой минимальный, самое необходимое. Да не вздумайте прихватить с собой дворцовые миниатюры и вообще ценности, являющиеся достоянием народа.
— Хорошо, я возьму только самое необходимое, — покорно согласился Мусманек.
21. ГЛАВА, ЛЮБЕЗНО ПОСВЯЩАЕМАЯ ВСЕМ ПРЕЗИДЕНТАМ РЕСПУБЛИК
Миг — и нет волшебной сказки.
Ячин давно ушел, а Мусманек сидел пришибленный, обессиленный, и не мог подняться. Не хватало сил, да и чужим казалось все тело.
Он уже так свыкся со всем этим комфортом, с почетом и роскошью и, не угодно ли, его выбрасывают, как надерзившего лакея… Хотя он никому не дерзил. Что за гнусность!..
Мусманек с каким-то наивным цинизмом считал себя несправедливо обиженным и ограбленным. Ячину, этому размалеванному красавчику, — хорошо ему говорить о беспечальной жизни за границей! Побыл бы хоть месяц президентом, — совсем из другой оперы запел бы. Им, этим бандитам, наплевать, что через две недели Мусманек должен посетить короля Виктора-Эммануила и Муссолини. Уже все решено. Мусманека ждут в Риме, — и не угодно ли? Скорей, скорей уноси подобру-поздорову и свою голову, и свои ноги…
Какой конфуз, какой жесточайший конфуз! Мерзавцы, дали бы ему хоть съездить в Рим и получить уже обещанный орден Анунциаты.
Но сколь ни желанны были Мусманеку и орден Анунциаты, и прием у короля и Муссолини, — все это бледнело, отходило на второй план перед поистине ужасным вопросом: как встретят жена и дочь катастрофическую новость? Как? А откладывать нельзя ни минуты. Ячин, уже совсем уходя, пригрозил, обернувшись:
— Помните же! Чем скорей, тем для вас самих лучше.
А за минуту перед этим Ячин говорил:
— В каких-нибудь два с половиной часа автомобиль домчит до Семиградской столицы. Наши патрули пропустят вас как главу государства, а, очутившись в Семиградии, вы заявите, что вы — спасающий вашу жизнь эмигрант.
— Эмигрант? Чтобы подавиться Ячину этим проклятым словом!..
Мусманек, едва оторвав невзрачную фигурку от кресла, с дрожью в неуверенных коленях побрел отыскивать президентшу в ее апартаментах, бывших апартаментах Маргареты.
Мадам Мусманек вместе с дочерью и Мариулой Панджили занята была примеркой модных тряпок, доставленных из Парижа на аэроплане.
Президент вошел не постучавшись, и мадам Мусманек целомудренно поспешила закрыть свои костлявые плечи. Дочь последовала примеру мамаши.
— Чего вы лезете без доклада? — встретила мужа мадам Мусманек, забывши, как еще совсем недавно они втроем ютились в одной спальне.
— Извини, мамулечка, но дело самой неотлагательной важности. — Мусманек пристально взглянул поверх очков на Мариулу, дав понять, что она здесь лишняя.
Мариула с полуироническим поклоном вышла. Мусманек плотно закрыл за ней дверь.
— Ну-с, в чем же дело? — торопила супруга.
— Мы должны немедленно уехать.
— Куда, как, зачем? Что такое? Уже? Так скоро?
— Да, часы и даже не часы, а минуты президентства моего сочтены. Сегодня к ночи большевики захватят власть, и ты понимаешь? Вы понимаете, мои дорогие, к этому времени мы должны быть по ту сторону границы…
Худые, в красных пятнах, лица жены и дочери, несмотря на густой слой пудры, пошли еще более резкими пятнами.
— Я так и знала! Так и знала! Тюфяк, болван, калоша! Ты, ты осрамил нас перед всем светом!
— Мамулечка, я не виноват! — как школьник, оправдывался президент.
— А кто же виноват? Слышишь, дочурка? Что мы теперь? Нищие, нищие, которым совестно будет в глаза смотреть людям. А наше положение?.. Наше положение?..
— Позволь, мамулечка, позволь… Ты, мамулечка… ну как бы это сказать, ты драматизируешь… Конечно, они ударили нас по карману, эти негодяи… Но все же мы не совсем нищие… В Париже, в «Лионском кредите», у нас двенадцать миллионов франков, а в Лондоне около четырехсот тысяч фунтов… Кроме того — бриллианты.
— Бриллианты? — негодующе-злобно зашипела мадам Мусманек и, стремительно подскочив к мужу, она к самому его носу, носу-пуговке, приблизила ничуть не дворцовый кукиш из трех костлявых, крепко зажатых пальцев. — Это видишь? Я не позволю продать ни одного карата! Ни одного! Слышишь?
— Ну хорошо, мамулечка, хорошо, не надо. Я так сказал, так себе… Не волнуйся и… будем собираться… Надо сплавить эту Панджили…
Но Панджили сплавила сама себя. Подслушав у дверей начало разговора, она ударилась в бегство.
Втайне от прислуги начались сборы. Вспотевшие, разгоряченные мать и дочь вытаскивали самые большие, самые поместительные чемоданы, чемоданы Маргареты. Жадность заглушила страх. Хотелось увезти не только все белье, все платья, но и безделушки и те миниатюры великих художников, о которых предостерегающе упомянул Ячин.
Чемоданы были уже снизу доверху набиты, а мамаша с дочкой обрывали портьеры, с бешенством кидая их прочь, так как для них уже не было места.
Мусманек с тревогой взирал на полдюжины громадных чемоданов.
— Мамулечка, дорогая, куда же все это?
— Молчите, жалкое ничтожество! Молчите! Я знаю, что делаю… Надо было все это раньше вывезти за границу… И подумать, подумать, что вся эта мебель, картины, все это пропало для нас!..
Внешний вид столицы не предвещал никакого переворота. Избаловавшаяся чернь, революционные солдаты и матросы, изнывавшие от безделья, одетые, — кто грязно, неряшливо, кто с неприличным шегольством, слонялись по городу, как и в первые дни мятежа.
Непосвященный глаз ничего, пожалуй, не заподозрил бы, но глаз Мусманека, увы, очень хорошо посвященный, угадывал за этой обманчивой маской сатанинскую красную харю…
Уже все чемоданы распухли, как наевшиеся до отвала примитивные животные без головы и конечностей… И вдруг Мусманека обожгло, как ударом молнии…
А что, если Штамбаров и Ячин сделали из него круглого идиота, посмеялись над ним? От одной этой мысли прохватила испарина. Действительно, идиот… Он так и уехал бы, не снесшись с товарищами.
Позвонил Шухтану. Отвечал растерянный лакей.
— Где председатель совета министров?
— Они уехали в Семиградию и не сказали, когда вернутся.
Мусманек, медленно холодея, так же медленно повесил трубку.
Хитрая каналья этот Шухтан! Его уже и след простыл. Позвонить разве еще Абарбанелю? Но из дворца министра финансов не было никакого ответа, и в пустом пространстве дребезжал телефон.
Как утопающий за соломинку, ухватился Мусманек за министра путей сообщения.
Этот оказался и дома, и у телефона. Узнав дрожащий голос Мусманека, Рангья насмешливо спросил его:
— Вы еще в городе?
— А… вы…
— Я? Конечно! При всех режимах не обойтись без железных и шоссейных дорог и всяких иных способов передвижения.
— Аа… — только и нашелся Мусманек.
— Бе… — передразнил его Рангья, энергично опуская трубку.
Последняя надежда исчезла… Бежать, бежать, бежать… А главное, чтобы это менее всего походило на бегство.
Небольшой грузовик с чемоданами и с двумя придворными лакеями отправлен был вперед, а через четверть часа на легковой машине, той самой, на которой ездил Адриан с выездным камер-лакеем в плаще и треуголке, отбыл Мусманек с женой и дочерью. Обе они цепко держали по большому несессеру с драгоценностями, так еще недавно привезенными из Парижа заботливым супругом и папашей. Уже очутившись за городом, все трое оглядывались с невыразимой скорбью на кирпично-красное здание дворца.
Часа через два — граница, где их поджидал высланный вперед грузовик, окруженный солдатами.
Пограничники эти были молодец к молодцу, опрятно одетые в ловко пригнанную форму. Усатый, пожилой, с боевыми отличиями вахмистр лихим и бравым солдатом глядел — в конвое Мусманека ни одного не было ему равного. В пограничники пошли они — и эти солдаты, и этот вахмистр — потому лишь, что некуда было деваться сверхсрочным служакам, на протяжении многих лет не знавшим ничего иного, кроме войны и военного дела. Все они были сплошь монархисты, и каждый, кто в кармане, кто в вещевом мешке, имел открытку с изображением Адриана.