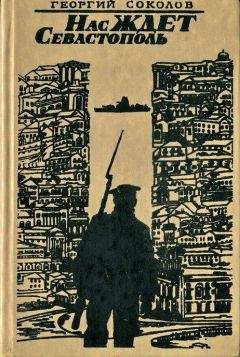Александр Гончар - Знаменосцы
Его не считали ни отчаянным, ни трусом. Он был скромный работяга войны, честный, всегда уравновешенный. Именно поэтому он никогда не вызывал опасений за свою особу, все были уверены, что кто-кто, а он «дотянет»…
Иван Антонович и сам охотно поддерживал общую уверенность в том, что с ним никакой беды приключиться не может, что он увидит конец войны. Когда Сагайда перетащил его на своей спине через дамбу, никому не верилось, что это лежит, заплывая кровью, Иван Антонович. И когда его засыпали землей, бойцам еще некоторое время казалось, что Ивана Антоновича не похоронили, а просто он ушел из роты по служебным делам, временно передав командование Чернышу.
У Черныша и Сагайды были равные звания, и вначале минометчики не знали, кто из них будет назначен командиром роты. Но бойцы, не сговариваясь, стали сразу же обращаться к Чернышу как к командиру роты. В первые минуты ему было неловко перед Сагайдой. Но Сагайда, заметив это, сам начал неприятный разговор.
— Принимай роту, Женька, — предложил он мрачно.
— Почему не ты?
В самом деле, почему не он? Ведь у него, Сагайды, фронтовой стаж значительно больший, чем у Черныша. В то время, когда Черныш еще порхал где-то курсантом, Сагайду уже заметали в окопе суровые донские снега. Черныш не перемесил и половины той фронтовой грязи, какую перемесил Сагайда. Все это было так. Но Сагайда не позволял себе закрывать глаза на то, что Черныш «хоть и поздно встал, зато много взял». Знания его были более глубокие, чем у Сагайды, решения более гибкие и дальновидные. «У тебя мысль имеет ровный, анкерный ход, — не раз говорил Сагайда Чернышу. — А у меня все как-то налетами, с приливами и отливами».
Методом скоростной прицельной стрельбы из минометов, который недавно предложил Черныш, уже заинтересовалось высшее командование. Этот метод давал возможность взять от родного оружия значительно больше, чем предусматривалось нормативами. Воюя, командуя, Черныш непрерывно учился, из каждого боя делал поучительные выводы, словно и на войне оставался курсантом. Сагайда же полагался главным образом на огонь своего сердца, и хотя сердце у «его всегда клокотало и рвалось в бой, этого было, конечно, недостаточно… И вот теперь он должен уступить первенство. Это было обидно, но Сагайда не дал разгуляться своему самолюбию. Речь шла об интересах дела, а в таких случаях он умел быть беспощадным не только к другим, но и к себе. По существу, он сам виноват. Надувшись не на Черныша, а на самого себя, Сагайда ответил, как думал:
— Ты сам знаешь, почему не я. У тебя больше данных, тебе и поле деятельности шире. И — не ломайся!
Вскоре Чернышу передали из штаба официальный приказ: именно он назначается командиром роты.
Прошло несколько дней. Морава уже стала для гвардейцев глубоким тылом. Плацдарм теперь не воспринимался, как плацдарм — он был необъятно широк! Пересекая с упорными боями восточную Австрию, полки постепенно приближались к австро-чешской границе. Здесь бои приобрели своеобразный характер. В большинстве это были ночные короткие атаки, молниеносные штурмы укрепленных высот и дорфов.
Каменные, мрачные дорфы… Они лежали, словно зарывшись в землю, отгороженные один от другого валами крутых холмов с обширными виноградниками на склонах. Перебираться через голые высоты приходилось большей частью ночью, сквозь перекрестные струи пулеметных очередей. Стегало огнем отовсюду. Засады, западни, минные поля…
В глубоких долинах пылали населенные пункты. На окраинах сел, среди виноградников, ровной линией выстраивались приземистые бетонированные бункера. В мирное время в этих бункерах хранилось вино. Теперь они служили удобными убежищами для эсэсовских банд. Виноградные лозы против бункерных пещер были скошены пулеметами.
После нескольких дней тяжелого наступления полк Самиева оказался в нефтеносном Цистердорфском районе Австрии.
XVI
Как-то под вечер батальоны штурмовали большую железнодорожную станцию, раскинувшуюся на голом плоскогорье, утыканном на десятки километров нефтяными вышками. Еще до начала боя ударом авиации были разрушены все пути, ведшие от станции на запад, и станция сразу превратилась в огромный тупик, замкнутый со всех сторон. Десятки пузатых цистерн с горючим, сгрудившись на путях, гулко лопались, сгорая в собственном огне. То в одном, то в другом месте рвались начиненные боеприпасами вагоны. Несколько паровозов еще кряхтели на тупиках, фыркая белым паром. Вся станция корчилась в огне: горели крыши амбаров, корежились на ветру, из края в край валил дым. Покоробленные сухие поля на подступах к станции вихрились взрывами, бушевали седыми заметами поднятой ветром пыли. Среди этих заметов короткими перебежками наступала пехота.
Хома со своим громоздким транспортом стоял, замаскировавшись, в одном из оврагов, в километре от станции. Может, и здесь пробивалась из земли молодая зелень, может, и здесь весна заявляла о себе, но Хома не замечал ее. Ему казалось, что опять возвращается ненастная осень. Ветер разгуливался, собирался дождь. Низко над фронтом нависли темные косматые тучи, стремительно летя против ветра. Потемнели посадки, пригибаясь к дорогам. Нефтяные вышки, четко очерченные днем, сейчас едва маячили на близких и далеких холмах. Только станция горела все ярче, грохотала, билась среди поля гигантскими черно-багровыми крыльями дыма.
Поле жалобно стонало, нагоняя на Хому тоскливые думы. Вспоминался родной дом, жена, вспоминалось все то, до боли влекущее, что могло осуществиться только после войны. Это была одна из тех минут, когда солдату чего-то остро недостает, когда сердце у него вдруг защемит, и он неожиданно почувствует, как далеко зашел, как трудно вернуться назад, какие холодные дали отделяют его от родного края. В такие минуты Хому неудержимо тянуло к своим огневикам. С ними на переднем крае, в самом сердце боя, он чувствовал себя увереннее и безопасней, чем в поистине безопасном необстреливаемом овраге. Но здесь он был без них, без своих огневиков. Поэтому, как только стало известно, что первые подразделения ворвались на территорию станции, Хома сел на коня и махнул ездовым:
— За мной!
На станции еще все трещало и дышало жаром, когда Хаецкий во главе своего обоза ринулся через переезд. Колеса подпрыгивали на развороченных рельсах, лошади путались в оборванных телеграфных проводах, а ездовые гнали все быстрее. Обгоняя один другого, они с разгона влетали в пристанционный поселок, как в огненную просеку. Обвалившиеся стены, снесенные крыши, изломанные заборы… Вся улица изрыта свежими воронками, на дне которых еще белеет устойчивый дым. Храпят чуткие кони, вдыхая ноздрями тяжелый смрад тлеющего тряпья, горелой сажи, газа недавно разорвавшихся мин. Ветер с гулом раздувает пламя, и оно бьет жаркими клочьями из дверей пустых гулких пакгаузов. Слышно, как раскаленные гвозди, срываясь с жестяных покареженных кровель, словно осколки, свистят в небо.
Пехота, заняв первые кварталы, уже вела бой где-то в центре, но пули еще жужжали вдоль улиц и переулков. Хаецкий, развернувшись на перекрестке, кинулся на северную окраину, куда, как ему казалось, углубились и его огневики. Проехав немного узким, изломанным переулком и не встретив однополчан, Хома из осторожности остановил повозки и, передав коня ездовым, отправился пешком искать своих.
Все больше темнело, стал накрапывать дождь. Нигде не видно никого. Окна домов, мимо которых пробегал Хома, смотрели на него темными провалами. Может, потому, что, пробежав улочку из конца в конец, он не встретил никого из своих, — все окружающее особенно остро пахнуло на него чужбиной… Даже мелкий дождь, усиливаясь, бил ему в лицо как-то неприязненно.
На краю улочки Хома остановился. Дальше тянулся пустырь, загроможденный разбитыми машинами и тракторами. «Вот бы добыть разрешение и послать один домой, — подумал мимоходом Хома. — Какая радость была бы в колхозе! Хаецкий с фронта трактор прислал! А то жинки лопатами землю копают…»
За пустырем виднелись длинные серые пакгаузы. «Склады, — мелькнуло у Хомы. — Может быть, с овсом? Добре, если с овсом! Набрал бы для коней!» У одной двери суетилось несколько фигур. Как будто рвались внутрь, высаживали ее прикладами. Наверное, разведчики. Хома через пустырь разогнался к ним. И вдруг со всего разбега дернулся на месте, присел и, спрыгнув в ближайшую воронку, выбросил автомат вперед.
У сарая были немцы.
Только сейчас Хома понял, что они не высаживали дверь, а, наоборот, забивали ее, чем-то обливая сверху. У одного в руке блеснул огонек, и пламя лизнуло массивную дверь. В тот же миг Хаецкий выпустил очередь из автомата. Двое или трое сразу упали, остальные, пригибаясь, бросились наутек. Хома наводил автомат на каждого в отдельности и скашивал короткой уверенной очередью. Последнего пуля догнала уже на углу длинного сарая. Выскочив из воронки, Хаецкий кинулся вперед. Уже прыгая по ступенькам, он услышал, как внутри сарая ревмя ревут, кричат, стонут многочисленные людские голоса. Десятки кулаков бьют в дверь, заложенную снаружи толстым ломом. Пламя уже подбиралось по двери к самой крыше. Перевернув автомат, Хома ударил прикладом по огромному металлическому замку. Внутри сразу притихли, но в следующую секунду закричали с еще большей силой — дико, страшно, нечеловечески. Хаецкий подскакивал к горящей двери, бил и снова отскакивал. Уже тлел на нем рукав, уже потрескался приклад, а замок все не поддавался. Хаецкий оглянулся вокруг, ища глазами что-нибудь более солидное, чем приклад. Обломок рельса!.. Он был такой тяжелый, что при других обстоятельствах Хаецкий, конечно, ни за что не поднял бы его. Но сейчас силы его умножились, и он, схватив стальной обломок, размахнулся им, синея от натуги. Горели обожженные руки и будто прирастали мясом к железу. Изо всех сил ударил по замку. Замок раскрылся. Едва Хома успел выбить его из петли, как дверь с грохотом распахнулась, и из сарая повалила плотная кричащая толпа. Мимо Хомы замелькали смертельно бледные, искаженные ужасом лица мужчин и женщин. Словно мертвецы встали из гробов. Застывшие, неподвижные глаза смотрели прямо перед собой. Не задерживаясь, люди бежали сквозь пламя, стучали деревянными колодками по ступеням, рассыпались по пустырю, кидались наобум — кто куда. Хома пытался остановить их, но они не замечали его.