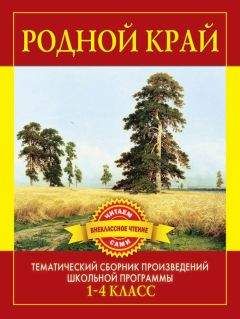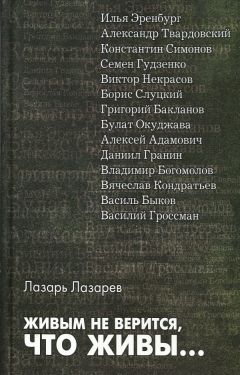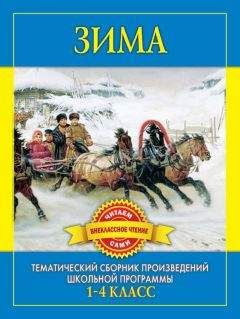Константин Воробьёв - Война. Krieg. 1941—1945. Произведения русских и немецких писателей
Нет, я имел в виду другое — распрекраснейшее наше солдатское состояние: бесквартирное, безмебельное, свободное от покупок, моды, барахла, семейных смет и ночных объяснений. И наше солдатское дело — выполняй приказ, и никаких сомнений, психологических глубин, держись поближе к кухне, подальше от начальства, старшина обеспечит. Все мое со мной, все умещалось в вещмешке. Танки наши шли по Восточной Пруссии, через опустелые фермы, городишки. Мы ночевали в роскошных особняках, полных диковинного для нас шмотья, но нам ничего не надо было, мы шли вперед, оставляя за собой свободу, Германию, где никогда не будет фашизма, — и каждый из нас чувствовал себя всесильным судьей, творящим высший и праведный суд.
— Тебе снится война? — спросил Володя.
— Давно не снилась.
— И мне давно.
— Тебе должны сниться научные сны. Штатные расписания, фонды, приборы. Зачем тебе военные сны?
— Нужно, — сказал он. — Иногда нужно.
Далеко наверху темнела сгорбленная фигура Рязанцева; комбата мы не видели.
— В колодце сидит, — сказал Володя. — Проверяет.
— Чего проверяет?
— Что было бы, если бы кабы… Пойдем на всякий случай повыше.
— Нехорошо. Ему ж надо знать…
— И что мы будем с этого иметь? Нет, отец, расстройств мне хватает в рабочее время, а тут в кои веки встретились…
Он взял меня за руку, потащил, забирая все выше по скосу, пока над уступом не показались голова и плечи комбата. Он что-то закричал нам, но мы продолжали идти, не теряя его из виду. Черный силуэт его вырастал над землей, поднимался по грудь, потом по пояс, он вставал из земли, словно один из тех, что полегли здесь.
— Неужели мы с тобой когда-то тут ползли и все это было? — спросил я. — Если бы прокрутить на экране, — представляешь, мы сидим в зале и смотрим.
— Кошмар. Просто чудо, что мы с тобой живы, старик. Для меня нынешняя жизнь — как бесплатное приложение.
С условленного места, где овраг разветвлялся сухими вымоинами, мы круто свернули на Рязанцева.
Володя закричал:
— Даешь «аппендицит»! Вперед! Нарушителей к ответу!
Мы хватались за кусты, карабкались наперегонки.
Мы выскочили прямо на Рязанцева.
— Сдавайся!
При нашем появлении они замолчали. Рязанцев пустыми глазами посмотрел на нас и отвернулся. Комбат вылез из колодца перепачканный в глине, растрепанный, галстучек его сбился, пуговица на пиджаке болталась. Он вытер руки о траву, спросил:
— Смухлевали?
— Да как можно, вы ж нашего брата насквозь, — затараторил Володя.
На мгновение комбат поверил, посветлел, видно было, как хотелось ему обмануться, но тут же вздохнул, расставаясь с несбыточным, нахмурился, снял зачем-то шляпу, повертел ее, рассматривая.
— Вот какая история… Так я и думал… Ах ты боже мой, что же выходит? Вы понимаете, как повернулось все… нет, не понимаете вы…
Он недоверчиво, как-то удивленно осматривал каждого из нас, словно не желая верить, что ничего исправить нельзя.
— Значит, что же? — тупо повторил он и задумался.
Мы почему-то успокоились, Володя вынул расческу, причесался, но вдруг комбат с какой-то отчаянностью и упорством, как бы наперекор себе, погрозил кулаком:
— Нет, раз уж так, я покажу! Я вам все покажу!
Зеленый рельеф, несмело высвеченный солнцем, лежал перед нами, как наглядное пособие в классе военного училища. Скомкав шляпу, комбат яростно тыкал ею в пространство, объяснял торопясь, словно боясь за свою решимость. Теперь, когда он убедился, что даже из крайнего колодца овражек не простреливается, ясно, что наступать надо было так, как мы шли с Володей, прижимаясь к другому склону, в мертвом пространстве, недоступном автоматчикам, и, круто свернув, выскочить сюда. Вот в чем слабость немецкой позиции. Тут у них и была слабина. И он знал, знал об этом.
— Откуда ты знал? — спросил Володя.
— Полесьев мне говорил. Ведь вы же по этому оврагу и отходили в ту ночь. Вспоминаете?
Володя изобразил удивление.
— Совсем в другом месте мы отходили. Никакого оврага там не было. Верно?
Он посмотрел на меня, я закивал головой и сказал:
— Может быть, немцы все же как-то подстраховались, перекрыли овраг?
— Не было у них тут ничего. Да и где тут что поставить? Разве что проволокой загородились. А я не поверил Полесьеву.
Рязанцев не вытерпел, нарушил свое оскорбленное молчание:
— Немцы могли заминировать овраг.
— Когда? — спросил комбат. — Они вообще наши участки не минировали.
Мы и так и эдак разглядывали чертов этот овраг, и путь через него становился все более очевидным. Мы ничего не могли с собой поделать, ужасно было подумать, как же мы не догадались использовать местность и перлись в лоб под огонь автоматчиков.
— Сейчас, в летний период, другой обзор, — не сдавался Рязанцев, — зимой овраг был скрыт снежным покровом.
— А от нас вообще ничего не разобрать, — убежденно сказал Володя. — Увидеть мы могли лишь сверху. С позиции господа бога. На том свете они, конечно, все видели.
— Снежный покров… — повторил комбат с надеждой, потом задумался. — Вряд ли. В декабре снегу было немного. Посдувало ветром. Это к Новому году навалило.
Он подождал наших вопросов, но мы молчали. Мы стали осторожными, своими вопросами мы только глубже залезли в эту трясину.
— Если не поверил я Полесьеву, тогда надо было разведку послать, — сказал он. — Так нет же! Торопился. Дата подпирала.
— Вы тут ни при чем, в такое положение поставили… — И я бросил взгляд на Рязанцева.
— Намекаешь, — сказал тот, тяжело краснея. — Мое дело было предложить.
— Зачем? Никто с тебя не требовал. Сам усердствовал.
— А ты другую сторону учел? Моральный подъем какой получился. У тебя был моральный подъем? Был? Если по-честному?
То-то и оно, что был. Вот в чем сложность. И мне следовало помалкивать, потому что я ничем не лучше его и не имею никакого права…
— Бросьте вы, — сказал Володя. — Главное, что каждый действовал вполне честно.
— Нет, погоди, я по команде обратился, — добивался своего Рязанцев, — Елизаров был против, а потом он позвонил, что комбат — «за».
— Его заставили, — неуверенно сказали.
— Никто меня не заставлял, — сказал комбат. — Я сам… — Он взмахнул стиснутой в кулаке шляпой, остановить его уже было невозможно. — Первый раз пошли — ладно, легкомыслие, ладно, торопился, а второй, а третий? При чем тут дата? Восемнадцать убитых, тридцать раненых.
Мы не желали этого слушать, мы еще сохраняли ему верность, но перед нами лежали буераки, по которым можно было бежать, карабкаться, не вжимаясь в землю, не обмирая перед свинцовым присвистом, не пятясь распластанно… Облачность совсем истоньшала, порвалась, открывая высокое синее небо. Солнечные просветы ползли по траве, никак не отзываясь в нас. Я шел по этому оврагу вместе с Безуглым, с Сеней и Володей, пальцы обнимали тяжелую лимонку, пули свистели где-то наверху, мы выскакивали прямо сюда…
— А может, и не было раньше этого оврага… То есть не то что вовсе… — поправился Володя. — Размыло его за эти годы. Вот у Виктора шевелюру выветрило. У меня зубы… Да и у тебя, комбат… — Его нелегкое веселье приглашало покончить на этом, забыть, уехать в город, выпить, спеть.
И я тоже старался помочь ему, что было — то было, уж кто-кто, а мы-то честно воевали, мало ли что может выясниться, важно, что тогда комбат делал все, что мог, не щадил себя, и сколько других геройских дел мы совершили.
Комбат рассеянно кивал, и все смотрели на овраг.
— По кустам видно, — сказал он. — Овраг-то старый. — Он помотал головой, сморщился, как от сильной боли. — Как я мог… Как я мог… Что же теперь делать? — спросил он вполне серьезно, как будто можно было что-то исправить.
Он недоуменно потер лоб, оглядел нас.
— Вот вам и комбат.
Морщины все сильнее ветвились на его темном, ореховом лице. Он стоял перед нами, стареющий, седеющий человек, и невозможно было понять, с какой стати он должен отвечать за того — лихого, с фуражечкой набекрень. Где-то там был и я, в кожаных штанах, стянутых с убитого старшины, нахальный… Выходит, и я должен отвечать за поступки того парня? С какой стати? Он жил в другое время и по другим законам, я не имею права его судить.
— Послушай, чего ты добиваешься? — в ярости произнес Володя.
— Может, я рассчитывал: поскольку доты, овраг перекроют? Так ведь не было дотов, — бормотал комбат.
— Ох ты господи! Объясните вы мне, что надо этому человеку!
Глаза комбата сузились в опасном прищуре.
— Не нравится? Вы уж простите, если испортил вам приятные воспоминания. Но давно меня это мучило. Да, да, профукал. Такую возможность упустил! Представляете, если б мы их вышибли отсюда… — Он зажмурился, мечтательно покачал головой из стороны в сторону. — Как я мог! Думают, почему сюда тянуло? Я, когда эти колодцы нашел, ахнул… Смеюсь и чуть не плачу от обиды. А теперь еще и это. Одно к одному. — Он зябко поежился. — Что ж молчите? Ошибки надо анализировать. Не стесняться… — Взгляд его вдруг смягчился, что-то в нем появилось прежнее: сочувствие, забота о нас? — Вы что же — выгораживаете меня! Вот тебе и на! А зачем? Вы поймите: не было никаких броневых плит, и колпаков не было. Не утешайте меня и себя. Я понимаю: боевые заслуги, атаки, активная оборона. А тут нате, преподнес — дотов нет, операции разведкой не подготовлены… Неграмотность. Сейчас любому комбату дайте эту задачу… Да, не сумели разгадать. Это мы потом научились. В Прибалтике целый полк провел у них под носом, сквозь щелку. И ахнуть не успели. А тут… Перехитрили нас. Да какие могут быть оправдания? Вы что хотите — чтобы я вроде Баскакова?