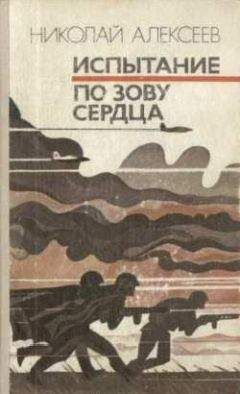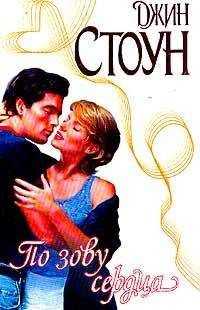Тамара Сычева - По зову сердца
Позабыв, что я в летнем цветном платье, подошла и вытянулась перед ним по уставу. Трощилов рассеянно поднял на меня большие, чуть выпуклые карие глаза:
— Что вы так рано?
— А вы?
— Я страдаю бессонницей.
— А я уже выспалась. Правда, сон какой-то тревожный был. Все воюю. Война не кончается.
— Да-а, — протянул Трощилов, — для нас, фронтовиков, она не скоро еще закончится… Садитесь! — хлопнул он ладонью по зеленой садовой скамейке. Потом нагнулся, поднял с земли плоский камушек и, размахнувшись, бросил его в озеро.
Камень ушел на дно, оставляя на гладкой поверхности медленно расходящиеся круги.
Чтобы прервать неловкое молчание, я спросила:
— Хотите озеро разбудить?
— Нет, пусть оно покоится. Ему в войну досталось крепко. В нашей палате отдыхает офицер из штаба армии, которая действовала здесь, так он нам говорил.
Закурив папиросу и затянувшись, майор, как всегда неторопливо, стал рассказывать:
— Когда наши войска заняли Будапешт, это для немцев было большой потерей, и они задались целью снова овладеть городом. Для этого в марте сорок четвертого года на небольшом плацдарме, от озера Балатон до озера Веленце, на шестнадцати километрах фашисты сосредоточили большие силы: танки, самоходки и авиацию под командованием генерала Вейхса, которые должны были прорвать фронт и овладеть Будапештом.
Вот смотрите, — Трощилов, отломав веточку, стал чертить ею на сыром песке. Нарисовал большой круг и перечеркнул его накрест. — Будапешт мы забрали, а вот восточнее… — и майор нарисовал рядом еще два кружка — один маленький яйцеобразный и над ним написал «Веленце», а второй больше, удлиненный — «Балатон». — Вот два озера. — Соединив кружочки линией, он продолжал: — На этих шестнадцати километрах, соединяющих озера, и задумал противник прорваться к Будапешту. А наш фронт шел восточнее Будапешта. — И он нарисовал большую стрелу, огибающую кружок с крестом. — Здесь артиллеристам было еще труднее, чем нам на Курской дуге. Большое было скопление танков. Говорят, на каждый километр приходилось до сотни «тигров» и самоходок «фердинанд».
— Потому что меньше плацдарм, — подметила я. — Шестнадцать километров всего, а по обе стороны вода!
— Конечно, — кивнул головой майор. — Здесь войска генерала Толбухина сильно оборонялись, мне еще тогда рассказывали участники боев. Фронтального хода танков почти не было, только лобовой, и шли они стальной стеной, почти впритирку. Но гвардейцы отлично держались. Артиллеристы били в упор. Не только противотанковые пушки, но и дальнобойные подпускали танки на сто — сто пятьдесят метров и прямой наводкой расстреливали их… Вот видите, — и майор указал веткой, — какие противотанковые надолбы врыты в землю…
— Да, — сказала я, оглядывая берег, — и каски пробитые в воде виднеются, и котелки…
— Это все следы боев, — кивнул майор на исковерканный, торчащий из воды скелет старой пристани. К ее изогнутым сваям волнами прибило остовы и щепки потопленных баркасов, плотов и лодок. Подальше торчала из воды большая широкая труба грузового катера, затопленного у причала.
— Как же сохранилось здание нашего санатория?
— Чудом. Фашисты его заминировали, но местные патриоты вовремя сообщили нам.
— Это был санаторий?
— Да. В этих местах всегда отдыхали богачи. Это были знаменитые курорты. Сюда съезжались со всего мира. Трудящимся, конечно, эти курорты были тогда недоступны… Особенно живописная местность, говорят, вон по ту сторону озера. Называется Шиофок. Туда ходят катера. Поедемте, Тамара? После завтрака. К тому времени и катер подойдет.
Мне стало как-то тепло и приятно оттого, что майор назвал меня по имени, но от неожиданности я невольно смутилась. Заметив это, он внимательно заглянул мне в глаза и спросил:
— Надеюсь, теперь можно называть вас по имени? Подчиненных ваших здесь нет, и вы меня не обрежете, как тогда, помните, у моста? Мне так было неудобно.
— Иначе нельзя было. Я никому не разрешала называть меня по имени при бойцах, а тем более — старшим командирам.
— Я это понимаю, но все же вы грубо поступили со мной, сконфузили меня, — засмеялся он и уже серьезней продолжал: — Ведь мы с вами еще с Днепра знаем друг друга. Я долго присматривался к вам…
— Вот как? — удивленно покосилась я на него.
— Да. Но воинская субординация не позволяла мне тогда побеседовать с вами откровенно. А теперь мирное время и… Я хочу серьезно поговорить с вами, и не вечером при луне, а сейчас, днем, чтобы честно смотреть друг другу в глаза, вот так, — остановил он на мне свой прямой, пристальный взгляд.
Наступило то молчание, когда рождается в душе что-то новое, большое. Мне стало неловко, я опустила глаза.
— Говорите, я слушаю.
— Я должен знать о вашем отношении к мужу. Свободны ли вы? Я хочу знать — все ли кончено у вас… или еще ведется переписка? — сбивчиво, волнуясь, говорил майор. — Я должен знать все, чтобы…
Последние его слова заглушил пронзительный звонок на завтрак. Я обрадовалась. Казалось, что сейчас еще не время говорить об этом, нужно было еще самой разобраться в моем отношении к мужу. Я поднялась и, стараясь сдержать дрожь в голосе, сказала шутливо:
— Война закончилась, теперь успеем поговорить, а сейчас пойдемте завтракать. Не знаю, как вы, а я проголодалась.
Однако в глубине души я была рада. Майор мне нравился. Он не был красавцем, но его опаленное войной мужественное лицо отражало душевную красоту, благородство и добродушие. В темных кудрявых волосах его не по возрасту рано мелькали сединки.
Грустно посмотрев на меня своими мягкими карими глазами, Трощилов медленно поднялся и как бы про себя сказал:
— Не избегайте, все равно нам не уйти от этого разговора… Ну, а туда, — кивнул на противоположный берег, — поедем?
— Поедем, — охотно согласилась я.
После завтрака мы встретились в круглой беседке у входа в главный корпус, где отдыхающие обычно играли в шахматы и домино. Там был и наш начальник штаба Фридман. Я любила общество живого, веселого и остроумного капитана и всегда была рада встрече с ним. Фридман отдыхал здесь уже второй месяц и часто ходил гулять с нами по саду и на пляж. Много пел, особенно нашу любимую песню «Ой, Днепро, Днепро», и мы вспоминали ожесточенные бои на Днепре.
— Помнишь, Тамара, как трудно было? И Днепр, и горы Карпаты? Но все позади. Остались живы — это счастье!.. Теперь еду домой в Ленинград, — говорил он, укладывая чемодан, — приду на свой завод «Электросила», я там работал с детства. Многих товарищей, наверное, недосчитаемся. Много и работы будет, завод сильно разрушен, пишут друзья… Ну ничего, восстановим, все восстановим!
В тот день Фридман уезжал в часть, и поэтому мы не поехали в Шиофок. Но на следующее утро майор пришел в столовую уже с билетами на катер.
На палубе было прохладно, поднявшийся ветер всколыхнул озеро и гнал большие волны. Катер раскачивало во все стороны. Подъезжая к Шиофоку, мы пересели ближе к борту и стали любоваться зелеными берегами.
— Смотрите, как здесь прекрасно! Какие дачи, санатории! Теперь здесь будут отдыхать трудящиеся Венгрии, — говорил Трощилов.
Наш разговор прервал продолжительный гудок катера. Мы приближались к берегу, от которого далеко в озеро тянулся мол, разделяющий неширокую бухту надвое. Катер пошел вдоль мола по узкому заливу, между парками с белыми резными беседками, маленькими ресторанчиками и кафе, утопающими в зелени.
Над аркой у самой пристани большими буквами было написано по-русски «Шиофок». Откуда-то доносилась веселая музыка.
Долго, мы ходили по тенистым улицам дачного поселка, осматривая парки, памятники и небольшие, окруженные цветниками коттеджи с остроконечными крышами. Узкие дорожки в садиках были аккуратно посыпаны желтым песком, но на многих фасадах и свежевыбеленных заборах еще темнели выбоины и проломы от снарядов и осколков — следы недавних боев.
В Шиофоке мы пробыли до вечера. Нам было приятно вдвоем и весело. Я рассказывала майору о крымских садах и курортах, о фруктах, о море и кипарисах, и он, выросший в курской деревне, мечтал теперь побывать у нас на юге.
В порт мы пришли затемно. Озеро еще больше взбудоражилось. Даже в бухте ходили большие волны. Когда отчалили от берега, нас уже окружала полная темнота. А тут еще началась гроза. Молнии хлестали черное небо огненными кнутами, отчего на секунду освещались палубы и темные, клокочущие волны. На катере испуганные дети громко плакали, а старики венгры крестились.
Ветер с каждой минутой все усиливался, усиливался и шторм. Катер то подлетал высоко вверх, то камнем падал в пропасть. Тяжелые волны с силой били о борт, наклоняя катер в одну сторону так, что все валилось. Деревянный корпус судна трещал по всем швам, и казалось, вот-вот рассыплется.