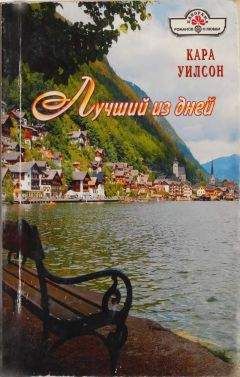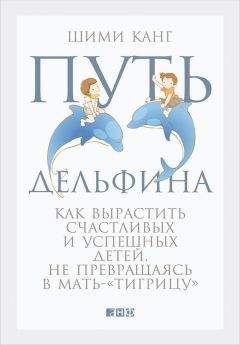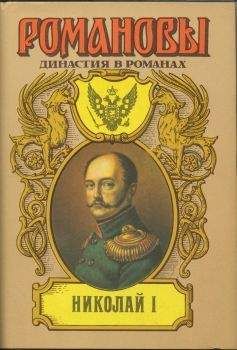Ежи Путрамент - Сентябрь
— Разрешите, — вежливо сказал он. — Не могу видеть, как женщины маются…
— Да идите вы! — огрызнулась Геня и вышла на улицу, таща свой груз. Один из ломов с громким стуком упал на землю. Пожилой человек с бородкой тотчас его поднял.
— Я, я сам! Не беспокойтесь!
Они втроем поспешили к развалинам. Людей стало больше. Кто-то их опередил, ломы уже крушили кирпич, в одном месте образовалась выемка, там докопались до лестницы в подвал.
Двое мужчин, Вацек и какая-то молодая женщина бросились к ним, вырывая принесенные инструменты. Человек с бородкой ни за что не хотел отдать свой лом.
— Я тоже, я тоже!
Вацек сунул ему свою лопату, а, лом отнял. Все кинулись на штурм развалин.
Надвигались сумерки. У Гени мелькнула мысль: «Небо хмурится, будет дождь…» Минуту спустя она сообразила, что где-то в стороне Желязной, за полотном, нависла большая серая туча дыма — пожар. Розовые отблески ложатся на мокрые от пота лица. Небо воет… знакомый вой, И только оттого, что бьешь изо всех сил по груде щебня ломом или лопатой, страх, преследовавший тебя час тому назад, не возвращается, как будто работать на улице безопаснее, чем прятаться в подвалах.
Потом пришлось разделить обязанности. Самолеты летели более плотным строем. Прибежал какой-то мальчик и крикнул им, что бросают зажигательные бомбы.
На чердаках никто не дежурил; поэтому было решено, что мужчины останутся работать на развалинах, а женщины поднимутся на крыши. Геня и Драпалова пошли в свой дом. По пути Геня заглянула к Игнацию; он лежал, не сводя глаз с окна. За крышей все сильнее розовело варшавское небо.
— Далеко это? — спросил он, и Геню взяло сомнение, правильно ли она поступает, бросая его одного. Лежит он и боится, что вспыхнет пожар, а от пожара ему не уйти, забудут о нем в суматохе. Значит, чтобы защитить его, не надо сидеть рядом с ним, гораздо важнее быть на крыше, оберегая их трущобу от огненных брусков, которые валятся с неба.
На чердаке темно, хоть глаз выколи. Женщины добрались наконец до окошечка, выглянули. Драпалова зажмурила глаза, увидев далекие пожары. А Гене крыша вдруг показалась менее страшной, чем чердак. Не без труда она убедила Драпалову, что торчать на чердаке нелепо, если никто не следит за крышей. Они вылезли на загремевшие под их тяжестью листы железа, боясь поскользнуться, встали возле трубы, уцепились за ее задымленные кирпичи.
Зато они все видели: ближние пожары, море пламени и столбы черного дыма, далекие красноватые стаи кучевых облаков. Зенитки умолкли. Небо воет, но уже нет смысла опускать перед ним голову. Геня беспомощно смотрела, как бомбардировщики опускаются все ниже, как из черных точечек они превращаются в черточки, как у черточек вырастают крылья и хвосты. Снова страх — что же иное можно чувствовать, стоя здесь, держась одной рукой за трубу, а другой за мачту антенны и ожидая, тебе ли принесет смерть этот черный крест или сбросит ее двумя кварталами дальше. Страх снова находил волнами: крест приближается, крест над тобой… Геня не сразу поняла: смерть эта настолько быстрая, что она угрожает тебе, когда летит в твою сторону, а когда она прямо над головой, то значит, что угроза уже миновала.
А потом и этот страх прошел, подобно огню, который угасает, пожрав все, что было возможно. На соседней крыше появились две девушки и несколько подростков. Они держались за веревки для белья, за перегородку голубятни, еще за что-то и смеялись.
— А вы там что?! — с удивлением крикнула им Геня. — У тети на именинах?!
— Ребята, перестаньте! — крикнул один из подростков. — Тетки боятся.
Геня погрозила им кулаком. Она рассердилась на них; как они могут смеяться, когда кругом столько слез и горя? Но тут налетела новая волна, опять завыло небо, опоганенное черными крестами, и кулак Гени невольно взметнулся вверх, словно она проклинала это небо за свою беззащитность.
Как из пригоршни, посыпались небольшие шипящие бруски; железная крыша загудела, как натянутый барабан. На крышах и во дворах засверкали целые хороводы крошечных красноватых лун, и сразу же из них стали рождаться маленькие, мягкие, добела раскаленные солнца. Геня с Драпаловой набросились на сверкающее пятнышко, которое было поближе к ним. В душе вспыхнула ярость, и вместе с тем Геня обрадовалась. Она била лопатой, сыпала песок на огненные глаза словно оглушенной змеи, топтала головку потушенной зажигалки своими сбитыми каблуками. Она дрожала от ярости и радости: наконец-то можно по-настоящему драться, хотя бы с этими осколками гитлеровской мощи.
Налет длился долго. Долго копались люди в руинах разрушенного дома. Женщины уже спустились с крыши — прерывистый вой сирен подействовал на них успокоительно, как сигнал об окончании затянувшегося рабочего дня на фабрике, — и тогда пришел Вацек: ничего не вышло, в подвале обвалился потолок, всех задавило.
— Как? — не сразу поняла Геня. — Задавило?
Вацек отвернулся, ему не хотелось больше говорить.
Женщины, прибежавшие во двор, оказались более выносливыми, они стали рассказывать:
— Ребенок этой, ребенок той, от одного грудного младенца вообще ни следа не осталось… десять человек погибло, двадцать. Тот, с бородкой, как увидел — хлоп в обморок. Четверть часа приводили его в чувство.
— Неженка, — сказал Антек Нарембский, — когда-то был учителем.
— Да, да, — вмешалась одна из женщин, — видно суждено им было, на все божья воля…
Геня стояла, слушала слова, которые столько раз произносила сама, но они не вызывали у нее благочестивых образов и мыслей. Она видела перед собой коридор в подвале, модные прически, лицо пана Паенцкого — притворно добродушное и перепуганное.
11
Налет длился так долго, что Ромбич тоже перестал бояться. Сердце теперь меньше замирало при каждом грозовом раскате. Зато не унималась другая боль, в течение всего воскресенья неотступно терзавшая его, как мигрень.
В первые два дня у него было достаточно поводов для испуга, психической травмы, отчаяния. Но в пятницу еще можно было ждать новых донесений, а до их получения не торопиться с выводами, не смотреть на большую карту, где лилово-красные флажки, которые Лещинский послушно воткнул вместо пурпурных, в этот момент начинали свой слишком быстрый бег по направлению к черному пятнышку — Варшаве. В пятницу еще можно было тешить себя разными красивыми словами, например утверждая, что разведка работала хорошо. Все сходится. Мы рассчитали, что удар будет нанесен из-под Ополя, и нас стукнули именно с той стороны. Следовательно, никакой неожиданности. А это значит, что мы справимся. Мы подготовились. Ночью отправлены соответствующие, заранее составленные приказы.
В субботу можно было ждать результата этих приказов. Беспокойство, сильное беспокойство. Но было еще далеко до сегодняшней неотвратимой уверенности.
Да, сегодня вечером он больше не мог себя обманывать. Уже не было спасения от правды.
Правда эта складывается из трех фактов. В Борах Тухольских в данный момент разваливается правый фланг армии «Торунь». Это значит, немцы уже пересекли коридор и через несколько дней усилят нажим на Нарев. А между тем на Нареве и без того плохо. Восьмая дивизия разбита в неудачной атаке на Пшасныш, вся армия «Модлин» отступает. И главное, между армиями «Лодзь» и «Краков» образовался более чем стокилометровый разрыв. Хуже того, по этому пустому пространству разгуливают где им угодно сотни немецких танков, от Радомско движутся на Петроков, и если им вздумается, то, свернув на восток, они смогут что называется голыми руками взять распыленные, рассредоточенные, упорно марширующие взад и вперед дивизии армии «Пруссия».
Эту правду можно выразить еще более сжато: враг бьет нас как хочет и где хочет. Известно было, что он сильнее нас, мы и ждали, что на первом этапе войны на его стороне будет преимущество. Но от этих ожиданий до грубой правды третьего вечера войны так же далеко, как от размышлений в цветущем возрасте о неизбежной старости, до понимания того, что ты болен смертельной, быстро прогрессирующей болезнью, чахоткой или раком.
Ромбич вскочил со стула и как безумный начал метаться по своей клетушке в убежище… Ничтожный карлик, завистник, посредственность! Наш Прондзинский! Стиснув зубы, он яростно обличал себя, не скупясь на оскорбительные прозвища, выискивая в своей душе уязвимые места, старательно скрываемые от врагов, и наносил удары именно по ним. — Польский Аристид! Разоблачал других. Преследовал Бурду — а кто ему подсунул все дело? Как обрадовалась этому скандалу «Вспулнота интересув» [59]! Каким образом он построил себе виллу? Откуда взялась коллекция картин? Девкой из театра обзавелся — на чьи деньги?
Он разошелся вовсю, извлекал из своей памяти самые разнообразные пакости, и истлевшие от давности, и свеженькие. Делал он это по очень простой причине, чтобы отогнать страх, мучивший его весь день, как головная боль.