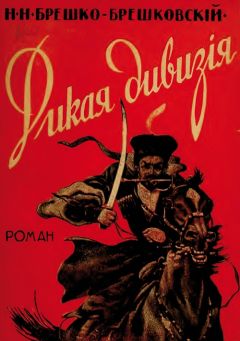Николай Брешко-Брешковский - Когда рушатся троны...
— Конечно, Ваше Величество, конечно!..
Тунда уехал, почти убежденный, что горячо пропагандируемый скульптор — новое увлечение Маргареты, увлечение, вытеснившее образ несчастного ди Пинелли.
— А впрочем, какое мне дело? — решил Тунда, никогда никого не осуждавший и через минуту забывший о своих подозрениях.
Но подозрения эти, как дым, развеялись, едва вместе с королевой вошел он в более чем скромное ателье Сережи Ловицкого.
Это не роман. Ничуть! С одной стороны — платоническое обожание, чуждое и тени чего-нибудь земного, с другой — Тунда, знавший королеву десятки лет, впервые увидел ее нежной, заботливой матерью.
Тунда, сам седой, уже на седьмом десятке, вечный ребенок, с первых же слов сумел победить Сережу, овладеть его доверием. Как художник Тунда любовался этим великолепным человеческим экземпляром, прицеливаясь творческим взглядом своим, как он напишет Сережу античным божком для декоративной композиции, заказанной ему маркизом де Кастелян.
Статуэтка значительно превысила все ожидания.
— Ваше… Гмм… мадам, вы бесконечно правы. Это — действительно шедевр. Это, я бы сказал, облагороженный Трубецкой, что, однако же, ничуть не мешает мосье Ловицкому оставаться вполне самобытным. Молодой человек, вы сами не понимаете, что вы такое, — говорил Сереже Тунда, — в вашей неподражаемой технике вы — то буйный, стихийный скиф, то самый утонченный европеец… Нет, нет я не могу… Я должен вас расцеловать… Ваше Величество, ваш портрет лепили и Трубецкой, и Роден, и Бартоломе, но это, это… — и вдруг Тунда осекся, увидев, какое впечатление произвело и на скульптора, и на модель это громкое, неожиданное «ваше величество»…
Ощущения королевы опрометчивый Тунда скорее почувствовал, угадал, чем увидел. Внешне она была непроницаемо-спокойна. Поистине царственная выдержка и великолепное умение надеть маску олимпийского безразличия в те минуты, когда это необходимо.
Внутри же, внутри… Бывший министр изящных искусств не сомневался, что внутри этой гордой женщины, его королевы, что-то оборвалось…
А Сережа мгновенье стоял ошеломленный, потом еще более пунцовый, с какой-то невыразимой вопрошающей мольбой, мольбой смятенного юноши переводил свой взгляд с знаменитого художника на ту, кого этот знаменитый художник назвал, — эти слова все еще звучат, звучат, — «вашим величеством».
Тунда, поперхнувшись, стараясь затушевать свое смущение, выпятив губы, заиграл своим пенсне.
— Да, так вот… вот что я хотел сказать… Мадам, — он подчеркнул слово «мадам», — говорила о вас, но то, что я вижу, победило… победило все мои… Близится «Осенний салон»… Необходимо этот маленький… эту прелестную жемчужину отлить в бронзе и вы понимаете? Фурор!..
— Да, но я хотел бы еще поработать…
— Что такое? Поработать? Стоп! Отливайте в таком виде, как есть! Сохрани Бог! Дальше вы можете замучить и испортить прекрасный, свежий портрет. Не прикасайтесь больше. Не прикасайтесь…
Сережа, далеко еще не овладевший собой, вопрошающе смотрел на свою модель.
— Я согласна с профессором. Это свежо, молодо, полно жизни и теперь — это уже дело бронзовщика. Но я, мосье Ловицкий, еще хочу заказать вам свой бюст в натуральную величину. Вы согласны?..
— О, право же… право же… — и он хотел еще прибавить «мадам», но это слово как-то не вышло у него.
Профессор, во дни ранней молодости своей хорошо знавший, что такое нужда и голод, увидел сразу, как несладко живется юному скульптору. Он сунул руку в карман и, захватив несколько тысячефранковых билетов, положил их на высокий станок.
— Вот вам аванс. Вы заплатите бронзовщику и заодно гонорар… И вообще — вы же будете лепить бюст мадам?..
Сережа готов был провалиться сквозь землю. Он сделал движение схватить скомканные бумажки и вернуть их Тунде.
— Господин профессор, я не могу, я не вправе… Вы, вы меня… обижаете, — чуть не сорвалось у него.
Тунда крепко взял его за плечи и потряс.
— Никаких возражений! Слышите! Я сам художник, сам получаю деньги за свой труд… Вот видите, не успел приехать, а уже заработал сорок восемь тысяч. Голубчик мой, пока мы творим, мы — жрецы… Кончили, это — уже товар, его необходимо продать наиболее выгодно… Да, да, слушайте меня, старика, и учитесь.
Сережа молчал. Сердце его учащенно билось.
Маргарета, сговорившись с ним относительно сеанса, ушла вместе с Тундой. Дорогой профессор, чувствуя себя виноватым, присмирел, не говоря ни слова. И так они прошли всю улицу Гро.
— Сколько я должна вам? — холодно спросила Маргарета.
— Ваше Величество, пустяк, о котором и говорить не стоит!
— Однако же?..
— Право, не помню. Я никогда не считаю денег. Трачу ли их, получаю ли, — никогда! Это не важно, а важно, что я влетел и сделал страшную гаффу!
— А я вас предупреждала. — с упреком молвила Маргарета. — Он до того впечатлительный и я боюсь, что вы вспугнули бедного мальчика.
— Вспугнул? Не думаю… Правда, сначала он был немного изумлен… Нет, нет, я этому не придаю значения.
— Дай Бог, чтобы это было так… — желая верить ему и не веря, сомневаясь, ответила она…
И уже весь день была омрачена королева и с тревогой думала о завтрашнем сеансе, как он встретит и будет ли таким, каким был до сих пор…
17. СМЯТЕНИЕ СЕРЕЖИ, ГОРЕ БЕДНОЙ МАТА-ГЕЙ
С первой же встречи в «Салоне» все время мучительно терялся в догадках Сережа Ловицкий. Кто же она, эта величественная, красивая дама, проявившая к нему столько внимания? Да что внимания! Куда неизмеримо ценнейшей была ее трогательная и нежная заботливость!..
К тому же он себя считал таким бледным, таким никому не интересным, таким затерянным в этом громадном чужом городе!..
Правда, некоторые женщины домогались его, но лучше и не говорить об этих «домогательствах», — до того они были односторонни, грубо-оскорбительны…
И вот появилась она, окружавшая себя тайной. Будь между ними роман, будь она стареющей, но все еще прекрасной грешницей, он понял бы это желание остаться для него незнакомкой. Так естественно. Светская дама, быть может, замужняя, боится огласки, боится, что молодой человек, которого она не знает и который беден, как церковная мышь, может оказаться, в конце концов, шантажистом…
Но в данном-то случае нет даже и тени чего-нибудь подобного. Безупречная, чистая, она заслуживает самых восторженных поклонений. Далеко не каждая мать относится к собственному сыну, как к нему, чужому, относится эта дама. В чем же дело?
И юноша терялся в догадках своих, терялся вплоть до момента, когда профессор, выпаливший «ваше величество», весьма этим смутился…
И сейчас же вспомнил Сережа свое знакомство с ней в «Салоне». Сережа сказал ей, что хотел бы лепить с нее мечтающую в сумерках королеву, и она, кажется, добавила тихо, про себя: «Королеву в изгнании»…
Тогда Сережа упустил это, не придал значения, но теперь, когда он сопоставил это с обмолвкой Тунды, теперь уже не было никаких сомнений. Почему она так тщательно оберегала свое инкогнито? Почему? Этим она лишний раз подчеркнула свою деликатность и чуткость. Громкий титул ее диссонансом звучал бы в этой бедной гарсоньере, где он и жил, и работал. Это «ваше величество» смутило бы ясный безмятежный покой Сережи. И она понимала это и, отправляясь к нему вместе с Тундой, наверное, строго-настрого заказала величать себя, как величал ее всегда этот знаменитый художник.
И что же? Она была права, глубоко права в своей, вернее в его, Сережиной, психологии. Сейчас Сережа уже не тот, каким был утром. Что-то необъяснимое овладело им… Он сам не мог сказать, что же именно. Ведь ничего же не случилось. Все внешне осталось по-прежнему. Осталось как будто, а между тем.
Артист с головы до ног, артист-мечтатель, живший вне времени и пространства, Сережа менее всего придавал значение титулам, отличиям знатности, и ничему этому никогда не поклонялся. И вот, подите же, однако… Он почувствовал себя менее свободным и более скованным, узнав, что благодетельница его — королева. Это было выше его сил, это было что-то гипнотизирующее. И уже затихший, несмелый, выбитый из колеи, ожидал он завтрашнего сеанса…
Вот он был с двадцатью сантимами, но эти скомканные билеты, в общем несколько тысяч франков, не только не радовали его, а ложились каким-то гнетом, и прикосновение к ним обжигало пальцы…
— Итак, она королева… — думал Сережа. — Но чья, какой страны?…
Будь он, как все, читай ежедневно газеты, он не спрашивал бы. Хотя и здесь путеводной звездой оказался Тунда. Сережа вспомнил, что эта мировая знаменитость был придворным живописцем пандурского королевского дома. Уже вслед за этим вспомнил он прочитанное или слышанное, что в Пандурии была, кажется, революция, окончившаяся, вернее начавшаяся, изгнанием правящей династии…