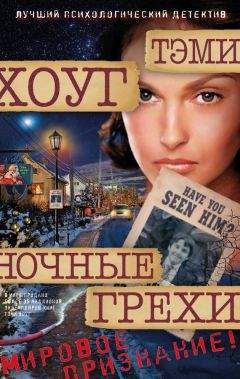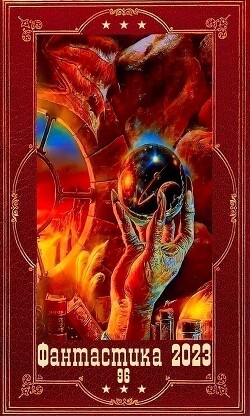Ру. Эм - Тхюи Ким
СЕГОДНЯ МАМА ЖАЛЕЕТ, ЧТО НЕ вырастила из меня принцессу, ведь и сама она не королева, в отличие от дядюшки Второго, ставшего для своих детей королем. Он сохранил королевский статус до самой смерти, хотя ни разу не подписывал оценку за экзамен, не изучал дневник, не мыл грязные руки своим отпрыскам. Изредка нам с кузиной выпадал шанс прокатиться на дядюшкиной «Веспе» [14] — она стояла впереди, а я сидела сзади. Сколько раз мы с Сяо Май подолгу ждали его под тамариндом возле здания начальной школы, пока сторож не запирал за нами двери на висячий замок. Даже торговцы маринованными манго, гуавой в перечной соли, охлажденной хикамой [15] — и те покидали тротуар перед школой, когда им в глаза начинало бить закатное солнце, и тогда мы с Май замечали его вдалеке — его волосы развевались при езде, а лицо расплывалось в зажигательной, ни с чем не сравнимой улыбке.
Он обнимал нас, и мы тотчас не просто превращались в принцесс — в его глазах мы были самыми красивыми, самыми важными на свете. Эйфория длилась, только пока мы ехали: вскоре он уже обнимал какую-нибудь женщину, почти каждый раз новую, и в этот момент титул принцессы переходил к ней. Мы ждали его в гостиной, пока новоиспеченная принцесса не переставала быть таковой. Каждая из этих женщин смогла почувствовать, что он выбрал именно ее, прекрасно зная при этом, что она лишь одна из многих.
МОИ РОДИТЕЛИ ЧАСТО ОСУЖДАЛИ вольности дядюшки Второго. Поэтому ему не пришлось просить меня, чтобы я не рассказывала о долгих ожиданиях возле школы или вечерах в гостиных незнакомых женщин. Если бы я его выдала, он лишился бы права за нами приезжать. А я потеряла бы возможность быть принцессой и видеть, как мой поцелуй превращается в цветок на его щеке. По прошествии тридцати лет моей матери хотелось чувствовать на своих щеках такие же поцелуи-цветы. Видимо, она разглядела во мне принцессу. Но я просто ее дочь, только дочь, не более.
МОЯ МАТЬ ОТПРАВИЛА ИЗ КВЕБЕКА деньги сыновьям дядюшки Второго, чтобы они, как и мы, смогли уплыть. После первой волны boat people в конце 1970-х отправлять в море дочерей стало неразумным, потому что встреча с пиратами теперь была данностью, обязательным пунктом программы, неизбежным злом. Так что на автобусе с беглецами отправились только два старших брата. Но по пути их перехватили. Их отец, мой дядя, мой король, их выдал… Из страха ли навсегда потерять их в море или боясь, что ему, отцу, аукнется их побег? Думая об этом, я говорю себе: он ведь так и не смог им признаться, что никогда не был им отцом, что он только их король. Должно быть, он боялся, что в него будут тыкать пальцами на городской площади, называя врагом коммунистов. Конечно, страшно вновь оказаться на площади, которая еще недавно тебе принадлежала. Если бы я могла тогда что-то сказать, я бы сказала ему: не надо их выдавать. Сказала бы, что ни разу не выдала его, несмотря на все опоздания и похождения.
ЖАННА, НАША ФЕЯ В КУПАЛЬНИКЕ и розовых колготках, с цветком в волосах, выпустила мой голос на свободу без всяких слов. С нами — девятью вьетнамцами из начальной школы Святого Семейства — она говорила языком музыки, пальцев, плеч. Показывала, как осваивать пространство вокруг себя, свободно раскинув руки, приподняв подбородок, дыша полной грудью. Она порхала вокруг нас подобно фее и поочередно ласкала взглядом. Ее шея вытягивалась, образуя плавную линию с плечом и рукой — вплоть до кончиков пальцев. Ноги совершали широкие круговые движения, словно она протирала стены или создавала ветер. Благодаря Жанне я научилась высвобождать голос из тайников тела, чтобы он достигал краев моих губ.
ГОЛОС ПРИГОДИЛСЯ МНЕ В САМОМ сердце Сайгона, чтобы прочесть дядюшке Второму перед самой его кончиной несколько эротических сцен из «Элементарных частиц» Уэльбека. Мне больше не хотелось быть его принцессой, я стала его ангелом, напомнившим, как он окунал мои пальцы во взбитые сливки кофе по-венски и напевал: «Bésame, bésame mucho…» [16].
Его тело, уже похолодевшее, застывшее, окружали не только дети и жены — старая и новая, — не только братья и сестры, но и незнакомые ему люди. Оплакать его смерть пришли тысячи. Одни потеряли возлюбленного, другие — полюбившегося спортивного журналиста, а кто-то — своего бывшего депутата, писателя, живописца, свою счастливую карту.
В этой толпе был один человек, с виду бедный. На нем была рубашка с пожелтевшим воротником и черные сморщенные брюки, перехваченные старым ремнем. Он держался поодаль, в тени дерева с огненно-красными цветами, рядом стоял заляпанный грязью китайский велосипед. Человек прождал много часов и проследовал за кортежем на кладбище, оно находилось за городом, в стенах буддистского храма. Там он тоже стоял в стороне, молчал, не двигался. Одна из моих тетушек подошла к нему и спросила, зачем он проехал такое расстояние. Знал ли он моего дядю? Он ответил, что не знал, но благодаря его словам жил и поднимался каждое утро. Он потерял своего кумира. А я — нет. Ни кумира, ни короля — только друга, рассказывавшего мне о своих любовных похождениях, о политике, живописи, книгах, в основном что-то легкомысленное, ведь он не успел состариться перед смертью. Он заставил время остановиться и до конца продолжал наслаждаться жизнью по полной — легко, как в расцвете лет.
ВЫХОДИТ, МАМЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО быть моей королевой, достаточно, что она просто моя мать, даже если мои редкие поцелуи на ее щеке не так уж величественны.
МОЯ МАМА ЗАВИДОВАЛА ДЯДИНОЙ безответственности, точнее, его умению быть безответственным. А еще невольно ревновала к королевскому статусу, который достался ее младшему брату и сестрам. Сестер дети боготворили так же, как старшего брата, — по разным причинам: одна была самой красивой, другая — самой талантливой, третья — самой умной… Моим кузенам и кузинам их матери казались лучшими на свете. А моя всем, включая моих теток и их чад, внушала только страх. В молодости она пользовалась высшим авторитетом. Настойчиво самоутверждалась в роли старшей сестры, потому что хотела, чтобы ее воспринимали отдельно от брата, поглощавшего внимание окружающих.
Она взяла на себя обязанности главы семейства, министра образования, матушки-настоятельницы, главы клана. Она принимала решения, определяла наказания, воспитывала нарушителей, заставляла замолчать недовольных. Мой дед, будучи председателем Совета, не опускался до повседневных дел. Бабушка совмещала заботы о младших детях с повторяющимися выкидышами. Моя мать говорила, что дядюшка Второй олицетворяет эгоизм и эгоцентризм одновременно. Поэтому она отвела себе высшую ступень власти. Помню, однажды бабушка не отважилась попросить ее отпереть дверь в ванную и освободить младшего брата и сестер, наказанных за то, что они ушли с дядюшкой Вторым, не спросив у моей матери разрешения. Будучи подростком, она распоряжалась властью наивной железной рукой. Ее месть старшему брату за беспечность, а младшим — за преклонение перед ним была плохо продумана: ребятня продолжила резвиться в ванной — без нее. Все ее юношеское легкомыслие утекло сквозь пальцы, пока она призывала сестер к скромности и запрещала им танцевать.
МЕЖДУ ТЕМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ лет мама полюбила танцы. Она позволила друзьям убедить себя, что танго, ча-ча-ча и пасодобль заменяют физические упражнения и в них нет чувственности, обольщения, опьянения. Но с тех пор, как она раз в неделю ходит на занятия, ей время от времени становится жаль, что избирательную кампанию не совместили с вечеринками, на которых ее брат, мой отец и еще десятки молодых кандидатов веселились, собравшись за столом. Не случайно сегодня она ищет руку моего отца в кино и ждет поцелуя в щеку перед фотоаппаратом.