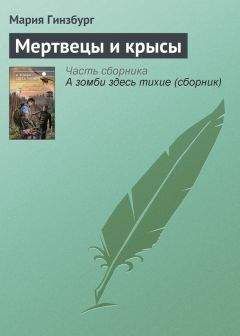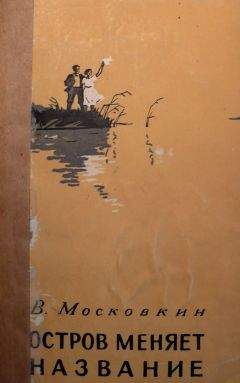Виктор Московкин - Ремесленники. Дорога в длинный день. Не говори, что любишь: Повести
— Галкин, — спрашивает он, — сколько та акула людей слопала, которую мы теперь едим?
— Не знаю, — отвечает Сеня, лицо у которого остается задорным и несерьезным. — Меня так она не ела.
— Куда тебя, костьми подавилась бы. Сказал тоже.
— Да и тебя, — заключил Сеня, хотя Венька плотный, кажется упитанным, у него кость такая широкая.
— Верно, — согласился Венька. — А вот Таньку Терешкину враз проглотила бы и плавнички облизала.
— Это почему? — любопытствует Танька, на гладком лбу у нее появляется вопросительная складочка.
— Наодеколоненных она любит. Кстати, Тань, ты не прозевай, накажи своему лейтенанту, чтобы он аттестат на тебя выслал. Приоденешься, да и акулу не придется есть.
— Дурак! — Танька обиделась всерьез. — Алешенька, не дружи ты с этим вахлаком. Что он тебе?
— Алешенька, Алешенька, — передразнил Венька, лицо его зло передернулось: не так-то уж он равнодушен к Таньке Терешкиной, как хочет показать, иначе не заметил бы и «лейтенанта» и «Алешеньку». Что ж, любовь иногда скрывают и за грубостью. Венька повернулся к Алеше и отрезал: — Не копошись, давай живее, а то снова не поспеем. Развесил уши.
Максим Петрович на болтовню ребят не обращал внимания, но последние Венькины слова услышал.
— Что ты его подгоняешь? — оговорил он мальчишку. — Есть надо не спеша…
— Да ты что, Петрович! — не дослушав, возмутился Венька. — Мы же не успеем. Опять в милиции ночевать? Не больно-то там ласкают.
Максим Петрович замер, тщетно пытался понять Веньку: что он такое говорит?
— Ты что мелешь, бесененок?
— Ну, Петрович! — В голосе Веньки теперь слышалось и изумление и жалость к старику. — Ты прямо как с луны свалился. Радио, что ли, не слушаешь? В городе комендантский час. Не успеешь ко времени — сиди до утра в милиции. Мы-то знаем, не впервой.
К осени немцы придвинулись к Москве, до которой не было и трехсот километров, город стал прифронтовым, и потому был объявлен комендантский час. Это Максим Петрович знал, но не думал, что ограничение времени касается его воспитанников.
— Да ты на самом деле? — Еще не веря, Максим Петрович встревоженно вгляделся в Веньку, в Алешу. — Что ты сказал?
— Что слышал, мастер. Вася топ-топ как миленьких зацапает, от него не отвертишься, глазастый.
Глава вторая
За плотиной у фабрики ремесленников встречал милиционер, которого за низенький рост и огромные сапоги звали Васей топ-топ.
Когда они ездили через весь город на трамвае, много длинней был путь, да и не всегда попадали на трамвай, — комендантский час их заставал далеко от дома. Другое дело — полем, если хорошей рысью, так и успеть можно.
Но той предвоенной весной прорвало старое русло Которосли, вода пошла мимо плотины. Прорыв забросали камнями, всяческим хламом, сверху выложили дамбу из мешков с глиной. В сырую погоду мешки становились скользкими, с трудом удавалось пройти, теряя много времени, эти тридцать — сорок метров. Так что к началу комендантского часа они только успевали к плотине. И на площади, у магазина-лабаза, их подстерегал милиционер Вася топ-топ. Конечно, Вася топ-топ не нарочно поджидал их, просто у него здесь был пост. Стоять ему долгие часы скучно, томительно, появлению ребят он радовался: пока то да се — время скрадывалось.
До дома оставалось совсем немного, но ничего не помогало: ни ученический билет, ни уговоры — Вася топ-топ четко придерживался инструкции. Он вел их в отделение милиции и сдавал дежурному, а тот запирал мальчишек до утра в большой пустой комнате с нетопленной печью.
Васю топ-топ хорошо знали в поселке. Он от рождения был нездоров. Его сверстники к десяти годам бегали наперегонки, днями пинали мяч, а он издали наблюдал, тоскуя оттого, что не может быть вместе с ними. Мальчишки — народ безжалостный, задирали его, дразнили, и он понемногу злобился. Что он мог поделать, если вся его внутренняя сила была распределена как-то неразумно: он отставал в росте, зато к пятнадцати годам носил ботинки сорок пятого размера. Позднее плоскостопие лишило его призыва в армию. Глупые насмешки сверстников, сознание своей неполноценности накладывали на его характер отпечаток угрюмости, замкнутости. С начала войны его взяли в милицию, поредевшую людьми в связи с отправкой на фронт. И тут Вася почувствовал, что казенная форма возвысила его, отношение стало другим, понял, что может приказывать и его станут почтительно слушать, пусть не всегда соглашаться в душе, а уж слушать будут без возражений. Перемена эта обогрела его бедную душу, сделала бесконечно счастливым.
Раз он заступил на пост возле фабрики. Приближался комендантский час. Стоял он, стоял, маясь от тоски, и вдруг из темноты вынырнули подростки, мальчишки, от которых так много горя и унижений перетерпел он в свои двадцать лет. Вася топ-топ подтянулся, начальственно окликнул их. Как они ни просили, он торжественным шагом повел их в отделение милиции.
В милицейской камере какой сон! Располагались на полу: под головой фуражка, снизу ватная фуфайка — сверху холод; если сверху фуфайка — снизу холод. Потому на работе отчаянно хотелось спать.
— Слушай, Веньк, вот бы на спине крылья — перелетать площадь, — говорил Алеша Карасев. — Чудо!
Алешка — мечтатель, выдумщик, Венька это с первого дня знакомства понял. И всё «бабушка». Как что ни скажет, прибавит: «Бабушка говорила». — «Что у тебя за бабушка такая, — понасмешничал Венька. — Прямо-таки всезнайка». Оказалось, что у Алешки в самом деле была бабушка, которая знала много сказок, но выдумки у него больше от книг, вернее, он и сам путается — что от бабушки, а что от книг, не всегда помнит. В их деревенском просторном доме на светлом и чистом чердаке была куча книг. Отец свалил их, чтобы они не мешались в избе, пока не сделаны полки, да так и не удосужился перенести. По словам Алешки, книг было так много, что о них спотыкались, когда зимой бегали на чердак за рябиной, загодя заготовленной: мороженая рябина вкусная и сладкая, почти без горечи. Из-за этих книг Алешке и попадало. У них в деревне на троицу парни и девушки обряжали березку: увешивали ее разноцветными ленточками, потом хороводы водили вокруг нее. А где ты наберешься ленточек — в деревне каждый клочок ткани в дело шел. А что у Карасевых на чердаке много книг, парни знали. Вот и попросили Алешку: «Сбегай-ка, принеси с чердака книжек. Мы из них ленточек нарежем да раскрасим, красивая березка будет». Тот глупый еще, загордился: поди-ка, взрослые молодцы к соплюну обращаются, — помчался домой за книгами, набрал охапку, принес. Знать, интересные книги попались: у парней глаза горят, листают, шепчутся о чем-то. «Тащи еще, — говорят, — этого мало». А Алешку, видно, домашние из окна заметили, наблюдали, как он тащил книги. Вот спускается он по лесенке с чердака с новой охапкой книг, а навстречу отец, сердитый, смотрит так, что у Алешки душа в пятки ушла. «Катерина, — кричит Алешкиной матери, — подай- ка сюда можжуховый веник». У них за деревней можжухи много росло, веники делали для бани да и для подметания пола. Спустил батя с него штаны, настегал, потом указывает на книги, что у лесенки рассыпались: «Отнеси назад. И за теми, которые отдал, сходи, варвар». Ну, Алешка бежит к парням, ревет, задница настеганная горит, пот всего прошибает — это витамины, которые в можжухе были, действовали. «Отдайте! — кричит. — Батяня ругается». Отдали без слов, сами поняли, что не дело задумали. Все бы и ничего, да два дня не мог сидеть, а спал на брюхе. Вот после этой витаминной порки и появился у него интерес к книгам. Бабушка, будто, буквы показала, слова складывать научила. И читал все подряд: что попадется под руку, то и читает, не понимает, а все равно страницы переворачивает. Знал, говорит, что книги люди пишут, а тут подвернулась книжка — и там, где всегда фамилия стоит того, кто книжку написал, читает: «Сталь», Что такое? Не может железо писать. К одному, другому— объясните! Бабушка объяснила, что на свете не только Коровины, Богатовы да Карасевы, есть и другие фамилии. Сталь — это фамилия, а уж если точнее — Сталиха, потому что женщина, да еще и очень известная революционерка.
Рассказывал он еще Веньке, что в их деревне стоял учительский дом, в нем же и школа; жили в доме две старые учительницы, сестры Марья Ивановна и Анна Ивановна. Приехали еще молоденькими с благородной целью просвещать народ, так и состарились, обжившись на одном месте. По Алешкиным рассказам, у них тоже каких только книг не было. И радио будто впервые у них услышал, через наушники. Сзади учительского дома был сад с кустами смородины. Попросит старшая, Марья Ивановна, набрать корзиночку ягод, а потом дает наушники, сиди и слушай. Там он про «Человека-невидимку» спектакль слушал.
Вот невидимкой перед Васей топ-топ Венька согласился бы стать: подкрался бы сзади, шлепнул слегка по затылку, Вася оборачивается, а Венька хвать его за нос и загробным голосом: «Не смей больше задерживать ремесленников, работают они аж до гула в ушах, фронту помогают. Понимать ты это должен или нет?» Представить только, как залопотал бы Вася: «Что вы, что вы. никогда больше не буду. Недопонимал…»