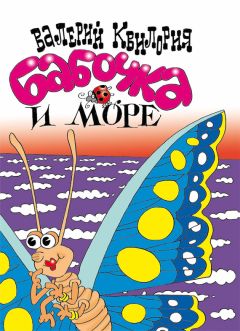Герман Занадворов - Рассказы
— Добрый вечер, хозяин! Поужинать можно у вас?
Голос вовсе не походил на осипший от водки и ругани полицейских, каких Ераст не переносил. Слепой поклонился:
— Будьте ласковы. Только какой у нас ужин. Лук да ячменники.
Тот же ответил:
— Ничего, хозяин! Нам лишь бы стол. Поедим свое. Видим, что не к старосте попали.
Хата наполнилась лязгом снимаемых автоматов, звоном ножей, запахом проперченных колбас, молодыми гулкими голосами. Ераст, напрягая слух, следил за тем, в котором признал командира. Тот из угла пригласил:
— Садись с нами, хозяин! Не стесняйся. Мы люди свои.
Не переча, Ераст сел так близко к неведомому гостю, что локтем осязал плотную шерсть его шинели.
Не видя его, слепой чувствовал, что это сильный, высокий человек с умными, усмешливыми глазами.
Не таясь, Ераст рассказывал, как живут люди, чего ждут, что слышит он, кочуя с гармошкой по ярмаркам и селам.
Гость слушал неторопливо, постукивая по столу пальцами. Только перед концом сказал:
— Знаем, что плохо. Знаем. Скоро будет лучше. Тогда, может, еще встретимся, песни послушаем. Люблю я старые песни, да сейчас времени нет.
Он встал. Негромко скомандовал:
— Выходите, хлопцы! Поехали!
И, обернувшись к Ерасту, добавил:
— Спасибо, хозяин! Прости, что побеспокоили поздно.
Ераст, испугавшись, что никогда не узнает, кто был его необыкновенный гость, спросил, торопясь:
— А кто же вы, простите, будете такие? С меня еще и староста спросит: кто, слепой черт, у тебя вечерял?
Командир, усмехнувшись, ответил с порога:
— Если староста спросит, скажите ему: Калашников был.
Когда оглушенный Ераст выскочил на двор, машина уже ушла. Ераст, босой, без шапки, долго стоял, слухом следя, как машина пересекала село, урча, взбиралась на гору, свернула на шоссе... Он стоял, когда уже ничего не было слышно, кроме шуршания ветра по снегу. Он дрожал от волнения, от холода.
Таков был нежданный конец Ерастового рассказа. И, спеша, он поднялся:
— Запрягай, Мотря. Нечего дома сидеть. Поехали!
Слепой песенник повез по селам продолжение думы про Калашникова.
Было на Украине страшное время. Удивительное было время на Украине.
Октябрь, 1943 г.
Увертюра
Студеным осенним вечером — под копытами звенела земля — в село вошел отряд. Отряд был конный, большой. Партизаны заняли всю заречную сторону до леса, до школы на опушке.
Они прорвались сюда с боями. Кони были мореные. Люди отощавшие. Они засыпали, едва присев в тепле. В хаты внесли раненых. Иные в бреду командовали, иные просили, чтоб убили, не трясли дальше.
Штаб отаборился в квартире директора школы. Штабисты сушили портянки над плитой. Грелись чаем из липового цвета. За столом хозяйничала жена директора, молоденькая, тоненькая, как восьмиклассница...
Штабистов было четверо. Трое задремали на диване. Командир ходил из угла в угол. Баюкал забинтованную руку.
— Вы прилегли бы, — сказала хозяйка.
Командир остановился перед ней. Он был высокий, должно быть, еще очень молодой; усталость, сросшиеся брови и форма немецкого майора делали его сорокалетним.
— Спасибо. Я не устал.
Женщина успела узнать от других: он был студентом. Война помешала ему окончить университет. Он стал организатором отряда и замечательным тактиком партизанской борьбы. Товарищи рассказывали о нем с восторгом.
Командир ходил по комнате. За два года он привык к лесам. Он почти забыл, что существуют вот такие комнаты, с диванами, скатерочками, книгами, нотами и молодой женщиной.
Женщина следила, полная удивления и сочувствия.
Рояль отвечал на шаги гулом басовых струн. Командир боролся с усталостью и болью. Он был в полудреме. Путано думал о том, что надо бы не давать отдыха, надо идти дальше к Черному лесу. Там есть базы и товарищи, но у ребят нет сил и патронов мало. А на эти мысли наплывали другие, и ему хотелось тоже покоя, хотя бы несколько часов. Чертовски хотелось вытянуться в кресле, закрыть глаза, и чтоб играла музыка и женщина гладила волосы.
— Сыграйте что-нибудь, — попросил он хозяйку.
Она отказалась, смутившись. Она любила музыку, но играла плохо.
— Жаль, — сказал он. — Я тоже только баловался. Все, казалось, времени нет.
Он тронул клавиши жесткими пальцами здоровой руки и вздохнул.
— Даже «Чижика» теперь не выстукаю.
Вошел ухмыляющийся постовой.
— Товарищ командир, к вам там чудодей какой-то добивается. Сладить нельзя.
Постовой еще не договорил — за его спиной явилась нелепая фигура: тощий старик в обвисшем фетровой капелюхе, в длиннющем пальто — огородное чучело.
Жена директора узнала его, его знало все село, и все село смеялось над ним, над долгими, как у дивчины, пестрыми от седины волосами, над тем, как он боязливо сторонился коров и коней.
Война нагнала в село немало всякого народа. Приобживались, оженивались пленные, сбежавшие из лагерей, — русаки, грузины, узбеки. Приходили кто с «одной душой», кто волоча санки с ребятами и барахлишком. Повозвращались выгнанные из городов голодом и немцами сыны да внуки.
Все же не было диковинней старика с долгими волосами. Дидько его знает, откуда такой взялся.
Местная власть — налитой самогонкой старший полицай Рыгир арестовывал подозрительного несколько раз. Добивались, не еврей ли. С фельдшером и без фельдшера раздевали донага. Отгибали уши. Заглядывали в зубы. Чудной старик все сносил терпеливо. Только глаза, обыкновенно туманные, иногда усмехались умно и презрительно.
Тогда Рыгир впадал в ярость.
— Ну, ты! Цурик! Не очень. Мы и сами грамотные. Ты нам папир давай. Понимаешь по-немецки? Паспорт.
Установить, понимает ли пришелец по-немецки, не удалось. По документам, ушам, по мнению фельдшера выходило: он русский, из Киева. Вместе решили:
— Верно, он поп! Как есть поп. И бис его знает, чего не признается.
И милостиво дозволили жить в селе. Вначале он слонялся от хаты к хате. Краснея, заикаясь, просился ночевать. Но проку от такого ночевника было мало.
Он не рассказывал замечательных историй ни про бои, ни про утечи от немцев. Отмалчивался, если любящие посплетничать бабы выпытывали про семью...
Чаще всего его видели на речке.
Он бродил по берегу, как черногуз, глядел в мелкую воду. Присаживался на вербу и снова глядел. Барабанил по коре длинными костлявыми пальцами... Не то напевал, не то ворожил про себя. Испуганно вздрагивал, будто со сна, когда проходящие обращались с приветствиями.
Люди шли на мельницу. Он сидел. Люди уходили, смолов. Он все также глядел в воду.
Иногда, если на плотине собиралась компания помольщиков, он подходил, приподнимал шляпу, становился в стороне: слушал или думал про себя. Голоса не подавал, но простаивал подолгу, особенно если рассказывали про фронт, про партизан.
И снова уходил из долины и бродил быстрее обычного, взволнованными неровными шагами...
Мужчины — мельники, писари, даже учителя — пытались угадать, кто он: богач, у которого на годы хватит всего для обмена, опустившийся учитель, сумасшедший.
Бабы были сердобольнее:
— Може, горе у человека непереносимое на душе...
Было в нем что-то такое — в глазах ли, в морщинах просторного лба, в манере держать голову, — что самые отчаянные не решались смеяться ему в лицо, не посмели, вопреки обычаю, дать издевательское прозвище.
Село, как и власть, вынесло свое решение: старик «болен на голову», а «известно, тогда даже умнющий человек вытворяет такое, что никакой дурень не угонится».
Его приютила обиженная судьбой кривая Галька. Сначала плакала, растрачивая не израсходованную за одинокую жизнь нежность: «Дитя ты мое сивое!» Потом стала поругивать, говорили, и бивала, однако жалела: в хате и борще не отказывала.
Бабы смеялись:
— Нашла себе Галька на старость не то мужа, не то дите...
Она отругивалась.
— Дурни вы. Разве он человек? Говорю ему: «Холодно тебе на кровати, иди на печь до меня»... А он глазами мигает. «Нет, — говорит, — спасибо»...
По секрету Галька признавалась:
— Страшно мне с ним. Проснусь ночью. Гляжу — не спит. Бормочет что-то — будто кот мурлычет. А то сядет на кровати, рукой размахивает. Страшно. Так бы и выгнать враз. После жалко станет: куда он денется, негодящий.
Бабы утешали ее:
— Ничего... Он сам отсюда подастся.
Старик никуда не подавался. Он даже старался помогать Гале в ее несложном хозяйстве. Сапал, становясь на колени, шарил по земле близорукими глазами, чтобы отличить всходы свеклы от бурьяна. Сгибаясь в три погибели, таскал картошку на своей худой, жалкой спине.
Он слабел и старел на глазах. Волосы из серых стали совсем белыми. Клетки пальто сделались еще пестрее от разных неумело пришитых заплат, но его это будто не касалось. Старик не искал службы, не пробовал спекулировать, не варил мыла. Он проводил время над речкою, глядел в воду и будто слушал что-то внимательно, долго...