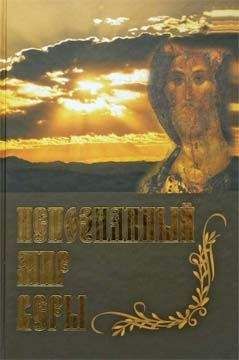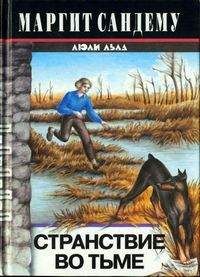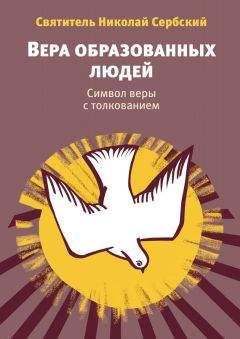Вард Рейслинк - Ладан и слёзы
И вдруг я увидел девочку, которая сидела на плетеном стульчике и, прищурив от солнца глаза, спокойно глядела на всю эту кутерьму. Она была лет на пять старше меня и так поразительно похожа на нашу соседскую девочку Веру, что у меня на миг замерло сердце. Моя миска была уже пуста, и я поставил ее рядом с собой на ящик. Господи, думал я, хорошо бы это и в самом деле оказалась Вера.
Я встал и нерешительно двинулся к ней. Увидев меня, она удивленно откинулась на стуле, пораженная не меньше, чем я. Наши глаза встретились, эту минуту я часто потом вспоминал. Она поднялась со своего стула и растерянно произнесла: «Валдо…»
Горячая радость залила мое лицо, подступили слезы, но я сдержался и только все смотрел и смотрел на Веру. Первый ее вопрос был:
— Где твои мама и папа?
Я чуть было не выпалил: «В бездне». Но удержался и тихо, опустив голову и глядя на ее босые ноги, ответил:
— Умерли.
Она хотела еще что-то спросить, но я, не давая ей открыть рта, повторил:
— Умерли.
— О Валдо… — чуть слышно прошептала она.
Я стал рассказывать Вере, что случилось на лесистом склоне между Поперинге и Мененом, она слушала, затаив дыхание, и лишь тихонько шептала: «О Валдо…» А я, снова терзаясь болью, видел разорванный рот папы и мамину туфлю в траве.
Потом я спросил Веру:
— А где твои родители?
— Папа в армии, воюет против немцев, — сказала она, — а маму я потеряла возле границы. Она пошла поискать молока для меня, а тут как раз началась воздушная тревога, все прямо обезумели от страха, меня, ни о чем не спрашивая, вместе с другими втолкнули в бомбоубежище. С тех пор я маму больше не видела.
— И ты пошла дальше одна?
— Ну конечно!
На ее запястье сверкнула цепочка — кажется, серебряная.
— И куда же ты направляешься?
— На побережье. Говорят, что немцам туда никогда не добраться, их там разобьют, как и в прошлый раз на Изере.
— Я тоже иду на побережье, — живо отозвался я. Она засмеялась.
— Тогда мы можем идти вместе… Замечательно!
Я объяснил, что должен вернуться к Эваристу. Вера спросила, кто это такой.
— Солдат, ему приказано доставить меня на побережье.
— На побережье? В лагерь для беженцев?
Я кивнул, удивившись, что она так быстро все поняла.
— Ой, только не туда! Они продержат тебя в плену до конца войны, и, говорят, там очень плохо кормят. Не веришь? Люди из Красного Креста, которые оттуда возвращались, рассказывали. Пойдем-ка лучше со мной, Валдо.
Она говорила о лагере беженцев с нескрываемым отвращением. Я колебался.
— Эварист рассердится, если узнает, что я сбежал. Вера засмеялась и принялась меня уговаривать:
— Глупенький, да твой Эварист вовсе не станет злиться, напротив, обрадуется, ведь он сможет взять в машину девушку.
— Девушку? — удивился я.
— Ну да. — Вера опять засмеялась, и я не понял почему. — Солдаты почти всегда подсаживают в свои машины девушек, неужели ты об этом не слыхал? Я сама приехала сюда так же.
Я вспомнил о тех девчонках, которых солдаты подобрали на дороге, и подумал, что, может быть, потому-то Эварист и был таким раздражительным — из-за меня он не мог никого взять в кабину. Мне уже совсем не хотелось к нему возвращаться.
Откровенно говоря, мне сейчас больше всего хотелось идти вместе с Верой. Не лучше ли послушаться зова своего сердца и отбросить все сомнения? С Верой я был бы в большей безопасности и гораздо спокойнее, не чувствовал бы себя беспомощным, точно птенец, вывалившийся из гнезда. И потом, она не будет злиться и поминутно меня ругать, как Эварист, чуть что придется не по нраву. К тому же я знал Веру давно и намного лучше, чем Эвариста, всего лишь месяц назад мы играли с ней в роще на берегу Флира. Я помню, как к реке приходили и мальчишки постарше, они дразнили Веру, швыряли ей в волосы колючки чертополоха и вытворяли бог знает что. Я злился, особенно когда заводилой был Какел, этот обычно гнал меня прочь и вопил, что мне лучше водиться с малявками, такими же, как я сам. Все мальчишки нашего квартала увивались вокруг Веры, одни называли ее красоткой, наливным яблочком, от которого так и хочется откусить кусочек, другие и того хуже — мололи всякие глупости и противно причмокивали при этом.
А Вера прекрасно умела ладить с сорванцами, иногда даже сама отвечала на их дурацкие шутки, но чаще всего просила оставить ее в покое. И тогда я приходил в восторг. Я обожал эту чудесную девочку с красивыми белокурыми локонами и большими, немного грустными, круглыми, как у плюшевого медвежонка, глазами.
Я беспокойно огляделся по сторонам: не видно ли где Эвариста, но его не было.
— Значит, мы сейчас пойдем? — спросил я у Веры.
— Нет, сегодня мы останемся здесь, — решительно сказала она. — А завтра двинемся в путь, к вечеру, может, доберемся до побережья.
— А где мы будем сегодня ночевать?
— На горчичной фабрике.
— Где-где?
Она указала мне на то самое полуразрушенное здание с навесом.
— Здесь, в этом доме. Раньше это была фабрика, где делали горчицу. Тут можно спокойно переночевать.
— А нам разрешат войти?
— Может, и не разрешат, но мы войдем без разрешения.
Я молча разглядывал серые стены, выбитые окна. Как она это отлично придумала! До чего же хорошо, что я ее встретил! И все же я не мог отделаться от смутного чувства неуверенности и тревоги.
Вера взяла меня за руку.
— Пошли, давай пока побродим вокруг. А когда стемнеет и все разойдутся, вернемся.
— А стульчик свой ты не возьмешь?
— Он вовсе не мой, — возразила она. — Его кто-то бросил, а я подобрала.
Мы обогнули площадь, оставив позади и толпу беженцев, и горчичную фабрику. Сейчас, издалека, фабричные трубы снова напоминали орган.
Вечером, когда сгустились сумерки, мы вернулись. Площадь опустела. Эварист наверняка уже уехал. Ни одной военной машины не осталось на площади. Вера подвела меня к входу с задней стороны здания.
— Ты ведь не боишься? — спросила она.
— Нет, — прошептал я, еще крепче сжав ее руку.
Она отворила дверь, которая, собственно, не была закрыта и болталась на петлях. Чувствуя, как у меня бешено колотится сердце, я вошел следом за Верой. Внутри было совсем темно, я с трудом различал только белевшие в темноте ноги и руки Веры. Мы поднялись по лестнице с железными перилами и остановились на площадке.
— Нам нужно подняться еще выше, — сказала Вера. Шаги наши грохотали по металлическому полу, гулким эхом отдавались в пустом помещении. Я все время думал, как бы не оступиться и не полететь вниз — в глубокую затхлую темноту, похожую на пропасть, поглотившую маму и папу.
Наконец мы очутились в просторном помещении, где стоял кислый запах, но зато было не так темно, благодаря множеству окон, почти везде с выбитыми стеклами. В углу виднелось несколько деревянных бочонков.
Мы огляделись. Я надеялся, что Вера предложит пойти ночевать куда-нибудь еще, но она, судя по всему, не собиралась этого делать. Возле бочек высилась груда джутовых мешков, Вера расстелила их на полу.
— Вот тебе и постель, — полушутя-полусерьезно сказала она. Я ничего не ответил и с опаской поглядел на окна, за которыми непрерывно мелькали какие-то тени.
— Что это? — прошептал я.
— Ах, это… Летучие мыши, — успокоила она меня.
Мы растянулись на мешках, вглядываясь широко открытыми глазами в темноту, где под потолком прямо над нашими головами висел полиспаст. Невдалеке от нас кто-то закашлялся — значит, не мы одни заночевали тут.
— Вера, — тихо позвал я.
Она не ответила, и тогда я легонько толкнул ее в бок.
— Тсс… не мешай мне молиться, — сказала она.
Я умолк. Зачем она молится? Может, от страха? Я прислушивался к шороху летучих мышей за окнами, похожему на шелест шагов в высокой мокрой траве.
Наконец снова раздался голос Веры:
— Ну что? Что ты хотел сказать?
— Ты маму и папу не вспоминаешь? — спросил я.
— Иногда вспоминаю, конечно. А почему ты об этом спрашиваешь?
— Так просто.
Я глубоко вздохнул. От мидиевого супа пучило живот и немного подташнивало. Трудно себе представить более неудобную постель, чем джутовые мешки — лежать на них было жестко, у меня заныла спина, и я повернулся на бок.
— Ты молилась за маму и папу?
— Да. И за тебя тоже. И за то, чтоб поскорее кончилась война.
Как же я обрадовался, узнав, что она молилась не только за своих, но и за меня. А что, если она молилась и за Какела? Эта мысль омрачила мою радость — этот задавака, который вечно приставал к девчонкам, не заслужил, чтобы за него молились. Повисло молчание. И только я хотел спросить Веру, почему она ходит босиком, куда девались ее туфли, как мы услышали, что кто-то поднимается по лестнице. Шаги замерли на платформе. Мы прислушались, не поднимутся ли они выше, но больше ничего не услышали. Спустя некоторое время шаги раздались опять, но теперь уже гораздо дальше, человек спускался вниз.