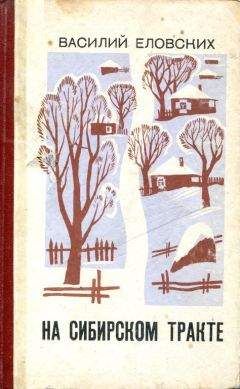Василий Еловских - В родных местах
— Довольно! — закричал Чудаков, и губы у него начали подрагивать. — Порви эту гадость.
— Почему же? Интересная брошюра. Вот ты, Васька, поди, думал, что одинаков со всеми людьми на земле. Ничего подобного! Тебя, Васька, нагло обманывали. И наши учителя, и наши газеты. Ты, Васька, не-до-че-ло-век.
— Издеваешься? — Лицо у Антохина потемнело от злости, только шрам оставался болезненно белым. Василий шагнул к Лисовскому.
— Прекрати! — закричал Чудаков, сердито глядя на Лисовского.
— Прекращаю, друзья, прекращаю. Примерно такие же брошюрки на русском языке, только без слов о поголовном истреблении русских, немцы сбрасывали и в наши окопы. И командиры строго запрещали красноармейцам читать эту блевотину. А зря. Я бы делал как раз наоборот. Каждого бы заставил прочитать.
Вспоминая потом об этом, Иван не мог понять, почему он тогда так разозлился на Лисовского. Ведь язвительность, насмешка, с которыми читал Лисовский фашистскую брошюрку, были как нельзя кстати.
Уже засыпая, Чудаков услышал голос Василия:
— Послушай, Лисовский… Только ты, это самое, спокойно… Если вдруг… Я, конечно, не верю, такому никогда не быть. Но если б вдруг немчура нас одолела…
— Ну!
— Что бы ты стал делать?
— Разговор этот бессмысленный. В любом случае я убивал бы их.
Теперь Чудаков верил Лисовскому, пожалуй, так, как никому другому, хотя тот для него, да и для Василия, был по-прежнему какой-то не совсем понятный.
5Перед рассветом, когда еще мерцали в смоляном небе редкие звезды, подожгли они деревянный мост через овраг, по дну которого текла река. Мысль о поджоге пришла в голову Василию.
— А мост на кой хрен тут? — сказал он. — Только немчуре на пользу.
— Поджечь! — коротко бросил Лисовский.
Мост старый, сухой, а загорался плохо. Потом заполыхало, с громким треском. Миг — и половина моста в огне. Василий подпрыгивал возле огня, крякал весело.
Лисовский стоял, головой и плечами подавшись вперед, будто разглядывал что-то и никак не мог разглядеть.
Чудаков начал переобуваться, когда услышал голос Лисовского, обеспокоенный и слегка насмешливый:
— Вот они, выплыли.
В поле показались силуэты людей. В свете красноватого пламени они выглядели аспидно темными.
Бежали цепью. Десятка два. Руки прижаты к автоматам.
Заглушая треск горящего дерева, грохнула автоматная очередь, выпущенная Лисовским. Два пальца левой руки у него были забинтованы.
— Чего тянете? — крикнул он резко и зло.
Припав к земле, Иван начал стрелять из винтовки; пальцы что-то ныли и не гнулись, и он мимоходом подумал, что не удалось посидеть у огня, и подивился, что еще может размышлять о чем-то, кроме боя, в такую пору.
Небольшая цепь немцев черным, зловещим полукольцом охватывала их. Они бежали все быстрее, на ходу стреляя.
Пуля дернула Чудакова за рукав пиджака.
Горящий мост с шумом обрушился в овраг. На землю опять упала густая темнота, у южного горизонта вспыхнули звезды. Потом, когда привыкли глаза, снова стали видны овраг и опушка леса.
— Пропали!! — крикнул Василий и вскочил. — Бежим!
— Лисовский, за мной! — крикнул Иван.
Но тот как прилип к земле, стрелял и стрелял.
— Да что ты там? — Иван заматерился, вдруг почувствовав какую-то злобу против Лисовского. Остановился — и в этот миг его с силой ударило в руку. «Почему не больно?» — подумал он с удивлением и тут же почувствовал боль, острую, все увеличивающуюся. Противная тягучая теплота расплывалась по коже — это текла кровь.
«Есть ли б в кость — рука бы онемела».
Они бежали по дну оврага, что-то бормоча, задыхаясь и падая. У моста Чудаков оставил вещмешок. И только сейчас вспомнил о нем.
Овраг раздвоился: вместо одного стало два, таких же широких. Василий, бежавший впереди, свернул налево. Он и сам не знал, почему. Свернул и все.
Под ногами сухая трава шуршит («Отчего сухая?»), сапоги оплетает, ветки кустарника лицо колют. Где-то в стороне стреляют и кричат немцы. Без конца стреляют — не жалеют патронов.
Бегут, бегут. Чаще падает Иван. Лисовский на ходу поддевает его под мышку и сильно, грубо отбрасывает от земли.
Овраг окончился, впереди обрывистая стена, земля на обрыве в сухой седой траве будто припудрена. А дальше гора покатая. На гору лезут темные рубленые дома. Людей не видно. И света в окнах нет.
Бежали возле сваленной околицы, по огородам, мимо хлевов, пригнувшись, озираясь, бежали туда, где под розовеющим небом чернела и радовала лесная опушка.
На отшибе — двухоконная хатенка, подпертая бревешком, между ею и огородом — густой плетень. Освещенные окна зашторены, на подоконнике цветы.
«Ой, не туда бежим!» — подумал Чудаков.
От плетня отделился длинновязый немец в расстегнутом френче и, торопливо подтягивая штаны, истошно заорал, ударил кулаком пробегавшего Чудакова. Иван упал.
На крыльцо выскочил второй немец и, не целясь, выстрелил из парабеллума в Василия, пуля пробила ухо. Лисовский выпустил в стрелявшего из автомата короткую очередь, но, боясь задеть своего, свел в сторону и промазал. Василий схватил гитлеровца за руку, заломил ее. Парабеллум глухо стукнул о ступеньки крыльца. Все это произошло за какое-то мгновение. В следующее мгновение Василий схватил немца за горло, но был отброшен. Тут же бросился на гитлеровца Лисовский; они покатились клубком, рыча и ругаясь.
В хатенке нервно закричала женщина.
Лисовский вцепился зубами гитлеровцу в руку, надавил со злостью и омерзением, чувствуя запах пота и крови.
Чудаков и длинновязый немец били друг друга кулаками. На помощь Чудакову подбежал Василий.
— Бежим! — крикнул Иван.
Распахнулось окошко хаты, то, которое выходило на улицу, и раздался надсадный женский крик:
— По-мо-ги-те! Бандиты!
Когда они уже отбежали от хаты, Лисовский выстрелил по окну, зло плюнул:
— Подстилка фашистская!
С горы по улице спускались черные мечущиеся фигуры. Немцы. Их было много.
Послышался свист пуль, короткий, тонкий, обманчиво-нежный — звуки смерти. Они наплывали отовсюду — справа, слева, спереди — и не было им конца. Ивана они страшили, он резко дергался вниз, заслышав их — «кланялся» пулям, хотя и думал: уж если просвистела, значит, где-то далеко и наклоняться нет никакого смысла. Но философия философией, а не сразу избавишься от этой унизительной привычки. Вот и Василий «кланяется». Только Лисовский — нет.
Крикнув «Сюда!», Иван бросился через огород к лесной опушке. Он, как и всегда, при появлении смертельной опасности, чувствовал наплыв бодрости и силы.
Лисовский остановился у развалин каменного сарая за деревней, торопливо набросал перед выломанной дверью кучу кирпича, распластался по земле и начал стрелять. Крикнул:
— Бегите! Бегите, говорю!!
Чудаков, отбежавший от сарая уже довольно далеко, позвал Лисовского. Его всего обдало холодком: «Не уйти!» Рядом вбивались в землю пули, поднимая легкую пыльцу, похожую на мелкий дымок. «Будто мальчишки камешками бросаются», — подумал Иван. И это было последнее, что он подумал.
Ударило в грудь, и Чудаков упал.
Немцев поразило, с какой одержимостью трое русских в крестьянской одежде сражались с ними. Раненый, весь окровавленный молодой оборванец (это был Василий), окруженный в лесу, не захотел сдаться в плен и, дико заскрежетав зубами, выстрелил последнюю пулю себе в голову. Двух других немцы так и не нашли, те как сквозь землю провалились.
Русские убили пятерых немецких солдат и четырех ранили.
Вспоминая об этом, обер-лейтенант, руководивший операцией по уничтожению русских, опытный офицер, не переставал удивляться.
Лисовского ранило в плечо. Но он мог идти и долго тащил тихо постанывающего Чудакова по лесу и болотинам, слыша, как немцы все тише и тише кричат где-то в отдалении. Свалился обессиленный в густом кустарнике, когда солнце висело уже высоко над горизонтом. Полежал, приподнялся, приложил ухо к груди Ивана. Тот был уже мертв. Лисовский даже не заметил, когда Иван умер. Видимо, какое-то время тащил мертвого.
День, а потом и ночь выдались теплыми, и Лисовский надеялся, что он отлежится и к утру ему будет легче. Но стало хуже. Рубаха была в липкой крови. Он чувствовал странное, тупое безразличие ко всему. Не ел уже сутки, и есть не хотелось. Где-то рядом раздражающе методично посвистывала неизвестная Лисовскому птица. Он родился в степи и лес знал плохо. Лес всегда казался ему непонятным и даже немного пугал. Лисовский не привык быть один. Его бесило одиночество.
Надо было похоронить Ивана. Лисовский почти весь день рыл сучком и перочинным ножом яму, отдыхая, поднимаясь, опять отдыхая и поднимаясь. Похоронил уже под вечер, прикрыв лицо покойника платком. И после этого свалился, чувствуя, что совершенно обессилел и уже не может пошевелить ни ногой, ни рукой.