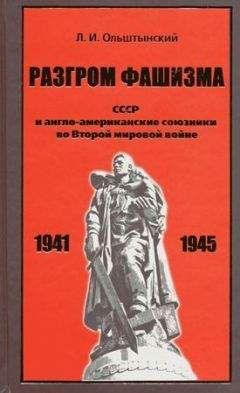Юрий Гончаров - Теперь-безымянные
Солдаты обоих полков, исчернив весь лес ячейками и щелями, которые было приказано им отрыть, кому как пришлось спали между деревьями на земле, положив под головы шинельные скатки или вещевые мешки. Каждый овраг, каждая балка были едва ли не сплошь выстланы недвижными телами спящих, и лишь там, где находился оставленный часовой или от сильной усталости и ломоты в ногах не шел к человеку сон, глаз улавливал живое шевеление, струйку махорочного дымка.
Уже подъехали кухни, расположились в самых глубоких, затененных оврагах; в их топках пылал огонь, повара черпаками помешивали в котлах закипающее варево.
Казалось, ничто не способно пробудить, поставить на ноги спящих солдат — так явственна была давящая тяжесть усталости, что свалила их на землю, так непреодолим и глубок был их сон.
Но вот забегали связные, зазвучали голоса старшин: «Па-ады-майсь!» И лес снова наполнился неясным, смутным шумом присутствия большого войска. Подчиняясь командам, солдаты, вначале полусонно, вяло, в бессознательности привычных движений, но затем все более оживая, вставали с земли, отряхиваясь от приставшего к одежде сора, надевали на плечи скатки, лямки вещевых мешков, становились в строй. Роты одна за одной оставляли временно приютившие их овраги и балки с нарытыми и так и не понадобившимися окопчиками и ямами и передвигались поближе к опушке леса, где в неглубокой канаве, за которой темнело открытое поле и виднелся горящий город, в бездеятельности, томясь даже не отвечая противнику на выстрелы, затиснувшись в узкие стрелковые щели, лежали бойцы, последние из тех, что вступили в В-ское сражение с самого его начала, те немногие счастливцы, которым довелось выжить, уцелеть, они уже знали, что подошло подкрепление, что их сменят, и с нетерпением этого дожидались.
— Охо-хо, когда же все-таки поумнеем! — с сердцем сказал мрачный, злой, озабоченный Остроухов, поговорив с командирами отходящих в тыл частей и убедившись, что и они ничем особенно не могут пополнить его сведений о противнике и дивизии предстоит действовать почти вслепую, ничего конкретно не зная о немецкой обороне. — Когда ж наконец возьмем в толк, что война — дело серьезное! Во что только нам это уже обошлось! А все самохвальство проклятое, если вникнуть, — все это от него… Считалось — моральную силу укрепляем. А оно — бедой нашей стало!.. Как, лейтенант, ты вот на своей шкуре испробовал — верно я говорю?
Молоденький младший лейтенант, усталый, грязный, с потеками пота на запыленном лице, сменивший в утреннем бою возле городской больницы последовательно три должности — командира взвода, командира роты и сейчас числившийся командиром батальона, неопределенно и стеснительно улыбнулся в ответ с поваленного дерева, на котором сидел напротив комдива, и промолчал, не решаясь вступать в обсуждение таких сложных проблем. Младшему лейтенанту хотелось сейчас одного — напиться досыта чистой прохладной воды, скинуть с горячих ног сапоги, пропревшие портянки и завалиться куда-нибудь спать, под куст, в солому — все равно куда, лишь бы не на передовой, чтоб впервые за много суток отдаться сну полностью, без невольного, инстинктивного прислушивания ко всем звукам вокруг, без всякой памяти о войне, превращающей короткие пятиминутные подремывания на передовой во что-то похожее на болезненные помрачения сознания.
Остроухов склонился над картою, которую держал сидевший рядом с ним Федянский, некоторое время внимательно вглядывался в значки и линии, потом указал пальцем:
— Вот тут обозначена среди леса сторожевая вышка, — цела она? Направьте туда людей, пусть выяснят. Сколько до этой вышки отсюда?
Федянский приложил к карте масштабную линейку:
— Шестьсот метров.
— Будет с нее виден город?
— Думаю — будет. Высота ее не указана, но по рельефу видно — стоит на возвышенном месте.
— Если цела — пусть дадут к ней связь. Полезу, погляжу своими глазами, где нам воевать… И вы со мной, вам это тоже пригодится…
— Хорошо, Устин Иванович… — готовно ответил Федянский. Не прекословя, он исполнил бы сейчас любое приказание комдива, полез бы с ним не только на вышку, но и к немцам на передовую, лишь бы обелить себя в его глазах.
А Остроухов вел себя, будто и не собирался ни в чем укорять своего помощника, то ли поглощенный своими заботами, то ли намеренно решив промолчать, оставить у него на совести стыдный для него эпизод.
Вышка оказалась цела. Когда комдив и Федянский подъехали к ней на верховых лошадях, связисты уже подняли на смотровую площадку полевой телефон, а саму площадку для маскировки обгородили зелеными ветками.
— Видать город? — спросил Остроухов у старшего над связистами, сержанта, белобрового, крепкого сибиряцкого сложения паренька, отдавая ему поводья.
— Видать, товарищ полковник, — сказал сержант, приматывая поводья к одной из бревенчатых опор вышки. — Только дымящем все позакрыто, как в тумане… А конек-то ваш голодный, глядите, как он к веткам тянется. Спутать его, что ль, чтоб он тут пока попасся?
— Ну, спутай, спутай, — отозвался Остроухов, занятый своими мыслями и явно пропуская мимо сознания то, что говорит ему сержант про коня.
Длинную отвесную лестницу на площадку давно не чинили, иных ступеней в ней не хватало. Остроухов потряс ее, проверяя прочность, полез вверх. Был он не тяжел, но лестница от его веса и движений зашаталась, заскрипела снизу до самого верха.
Следом за ним, немного выждав, отправился Федянский, от непривычки лазить по таким лестницам неловко перебирая руками и неуверенно ставя ноги, с тайной неохотой расставшись с землею, где частые древесные стволы и густая зелень давали чувство защищенности.
Город, придавленный дымной, до черноты ночи сгустившейся у нижнего края тучей, неподвижно стоявшей в половину всего вечернего небосвода, казался значительно более удаленным от леса, чем показывала карта. В дыму желтели, взблескивали языки пламени, медленно лизавшие костяки зданий, уже выглоданных изнутри огнем, сквозивших пробоинами, пустыми дырами окон.
Ближе всех других строений сквозь дым и белесый вечерний туман, растекавшийся из котловины парка по голому пустырю перед городом, могучим монолитом, угловатой несокрушимой скалою высилось здание городской больницы. Тусклый закат отсвечивал в сохранившихся кое-где стеклах, но в целом громадная, молчащая масса бетона и камня выглядела темно и мрачно, зримым воплощением той грозной, беспощадной силы, что затаилась внутри, господствуя надо всем обширным окружающим пространством.
Остроухов поднес к глазам бинокль. Крепость! Ах, что было бы, если бы у него не хватило характера восстать против генеральского приказа! Выйти против такой твердыни без артиллерийской поддержки! Нет, пока пушкари как следует не поработают — пехоте туда и близко нельзя соваться!..
* * *И еще одно небольшое событие, оставшееся известным лишь малому числу лиц из немецкого командования и рядового состава, но косвенно отразившееся на дальнейшем ходе военных действий в районе города, произошло в этот день 18 июля.
Рано утром, в то время, когда головные колонны дивизии Остроухова еще тянулись по лесным дорогам далеко к северо-востоку от города, медленно к нему приближаясь, с западной стороны, из глубокого немецкого тыла, по пыльному шоссе в городские пределы мягко и почти бесшумно въехала на большой скорости низкая, приплюснутая к земле легковая автомашина, как все фронтовые автомашины, по-тигриному испятнанная желто-бурыми полосами и разводами, с пучками сухих и свежих веток на крыше и по бокам. Специальное тавро на ее бортах указывало, что машина принадлежала штабу армейской группировки, к которой относились и сражавшиеся в районе захваченного города войска.
В начале первой же городской улицы машину остановил патруль во главе с рослым унтер-офицером, украшенным знаком участника зимнего сражения под Москвой. Рассмотрев поданные ему из машины документы, он, с дружелюбием и интересом обратив глаза на единственного пассажира, помещавшегося на переднем сиденье рядом с шофером, отдал ему честь — не просто как воинское приветствие, но выразив свою особую почтительность, и жестом показал солдатам, чтобы те отвели в сторону полосатую перекладину шлагбаума, преграждавшего дорогу. Машина, покачиваясь на неровностях булыжной мостовой, касаясь земли концами свисавших веток и пыля ими, покатила дальше, среди других автомашин, преимущественно грузовых, въезжавших в город и выезжавших из него.
Через минуту шоферу пришлось резко сбавить ход и с осторожностью провести машину в узкую брешь, специально для проезда транспорта проделанную в баррикаде из ящиков и мешков с песком. Такие баррикады, развороченные снарядами, подтверждавшие всем своим видом, как упорно обороняли русские город и как нелегко было его взять, встречались на городских улицах почти на каждом перекрестке. Одна из баррикад хранила следы особенно ожесточенной борьбы Пассажир остановил машину, вышел и со вниманием осмотрел баррикаду с обеих сторон, устроенные в ней узкие бойницы для винтовочных и пулеметных стволов, немецкий танк, как видно, пытавшийся на полном ходу протаранить толщу мешков с песком и застрявший в них, валяющиеся русские и немецкие каски, пустые патронные ящики, неиспользованные ручные гранаты, гильзы, автоматные диски, разбитое, искривленное, негодное оружие