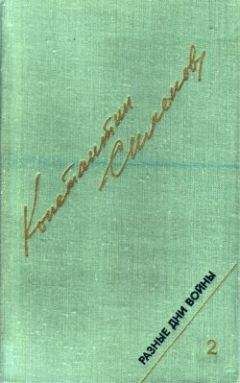Михаил Кожухов - Над Кабулом чужие звезды
В гостиничном номере Семеновых на столе лежит большая сумка с лекарствами, ворох пилюль вокруг нее. «Сам» одет в афганский национальный костюм, разливает коньяк, острит, льстит гостям: у него просто атомная энергетика обаяния! В углу на стуле замер Фарид Маздак, очень симпатичный мне главный афганский комсомолец, и Дуня еле слышно скребет углем по ватману, натянутому на раму: рисует его портрет.
Семенов перевернул вверх тормашками весь Кабул: афганцев, русских, гражданских, военных и любых других. Они гуськом, сменяя друг друга, появляются в его номере, увозят в наши и афганские части, в посольство, бог знает, куда еще. Он мне очень помог: перезнакомил с огромным количеством людей, до которых мне самому не добраться. Происходило это так: Семенов обнимал собеседника, подводил ко мне, тыкал мне пальцем в грудь и произносил:
— Это очень хороший мальчик, сын моей подруги. Я его очень люблю!
Интересно, что было в нем раньше — эта смесь обаяния, уверенности в себе, «свойскости», которая помогает открывать настежь любые двери, или все это пришло уже потом, после успеха?
— Я помню Кабул 1956 года, когда здесь не было ни одного метра асфальта. Это страна моей молодости, старикашка! — говорит мне он. — Я же востоковед по образованию, работал здесь переводчиком на торгово-промышленной выставке. И заболел холерой! Меня выходил четырнадцатилетний гостиничный «бой» — мальчишка по имени Дост. Он лечил меня травами, сидел ночи напролет у изголовья кровати, я помню сквозь бред и жар болезни его маленькую руку на моем лице. О чем я тогда мечтал? Увидеть лицо хоть одной женщины — они все были скрыты чадрой. А теперь? Я вижу их лица! Ты пойми: писатель — как собака, он не терпит ошейника. Он напишет, если в его сердце есть боль, радость, любовь. В моем сердце теперь все это есть! Счастья и радости этой стране!
На следующий вечер Семенов появился в гостинице перед самым комендантским часом в сопровождении какого-то человека в гражданском. По тому, как мгновенно втянул живот и расправил плечи Курилов, в одиночку охраняющий всю писательскую делегацию, стало понятно, что семеновский спутник занимает какой-то очень высокий пост в разведке. Втянутый куриловский живот, впрочем, никем не был замечен: и Семенов, и его товарищ едва стояли на ногах и клялись друг другу в вечной и нерушимой дружбе.
У Валеры Курилова это уже вторая командировка в Афганистан. Первая началась в декабре 1979 года: он был ранен при штурме дворца Амина. Увидев, что он вооружен одним только пистолетом Макарова, я решил поделиться с ним соображением:
— Дурацкий какой-то пистолет: тяжелый, затвор тугой.
— Почему же? — ответил Валера. — Это очень хороший пистолет. Когда на тебя падает человек с топором, ты стреляешь в него из «Макарова».
— И что?
— Вместе с топором человек летит в противоположную сторону. Хороший пистолет!
Возвращались домой уже в кромешной кабульской тьме. В зеркале заднего вида отражались фары «жигуленка» Курилова: он тоже живет где-то в Старом микрорайоне. Рядом со мной на сиденье лежала огоньковская книжка, на обложке которой было размашисто написано: «Мише Кожухову, товарищу по оружию. Юлиан Семенов».
* * *С утра на стадионе был первый пионерский праздник в истории этой страны. Тридцать тысяч афганят заполнили трибуны. Открытие припозднилось, конечно: попробуй-ка, совладай с такой толпой!
Пионеры маршем прошли по дорожке стадиона, два очень смешных клоуна вели под руки «американский империализм». Отчеканили шаг «суворовцы», потом вышли на поле гимнастки. Все очень просто, почти примитивно, но — впервые, а потому трогательно. Финальный аккорд и вовсе вызвал всеобщий восторг: в центр стадиона приземлились по очереди пять парашютистов из Клуба юных друзей авиации, среди которых, между прочим, была одна девушка. Трибуны, увидев это, неистовствовали. Барышни постарше, сидевшие в верхних рядах, даже забыли на миг о газетах и платках, которыми на протяжении всего праздника стыдливо прикрывали колени.
Чуть в стороне от трибуны для почетных гостей скромно сидел человек с грустными усами — Толя Завражнов, комсомольский «мушавер»,[9] приехавший сюда из «Орленка». Весь этот праздник, как, впрочем, и вообще все, что связано с этой ребятней в пионерских галстуках, — придумал он.
В Афганистане теперь тысячи наших «мушаверов»: во всех силовых структурах, в партии, в профсоюзах, в жэках и даже в зоопарке они советуют афганцам, как им дальше жить, работать и строить светлое будущее. Если бы так, как Толя Завражнов, пусть бы себе советовали!
* * *Вместе с правдистом Вадимом Окуловым, моей главной афганской «нянькой», и известинцем Германом Устиновым улетели в Кандагар и застряли там на неделю: нет погоды, все полеты отменены. Собственно, прилетели мы разузнать хоть что-нибудь об американце Чарлзе Торнтоне, который погиб на днях, когда наш спецназ расстрелял из засады очередной «духовский» караван.
История с американцем какая-то мутная. Труп его будто бы исчез наутро после ночного боя, а вещи остались. Корочки репортера газеты «Рипаблик», штат Аризона, а еще фотографии, на которых он вместе с двумя другими европейского вида типами грузит «стингеры» на машину моджахедов. И еще дневник, на обложке которого рукой Торнтона выведено: «Мое имя — Абдулгафар»… Был ли он репортером, не был ли — Аллах ведает, но на днях таким «стингером» здесь был сбит афганский самолет, и все его пассажиры погибли. Зачем этот Торнтон позировал перед камерой с самонаводящимися ракетами в руках? Было ли это обычным журналистским пижонством или отчетом начальству о доставленном грузе, — теперь уже не узнать. Впрочем, судя по записям в его блокноте, Торнтон и сам уже был не рад, что ввязался в эту историю. Похоже, когда наши поняли, что убили американца, они сами решили избавиться от тела: на нет и суда нет. Упоминания же о том, что из засады работал русский спецназ, в официальных сообщениях, разумеется, не было: в газетах они проходили как «солдаты армии ДРА».
До Кандагара мы так и не доехали. Начальник местной оперативной группы КГБ, перед кем-то неведомым за нас «отвечавший», отказался везти наотрез, сослался на то, что после гибели американца на каждом километре дороги засады. Да и вообще решил не выпускать нас из аэропортовского городка, компенсируя наше вынужденное затворничество разнообразными развлечениями.
Вот, например, прямо на дом доставили для интервью странного бандита Исмата Муслима. Муслим когда-то учился в академии имени Фрунзе в Москве и там же был посажен в тюрьму за спекуляцию валютой. Вернувшись домой, несколько лет воевал на «той» стороне, а теперь вот «перековался». Когда обсуждал условия перехода на сторону правительства, попросил себе в замы армейского полковника. «Ага, — подумали люди, — если у него заместитель — полковник, кто же тогда по званию сам Исмат?!»
Высокий, усатый, — маузер на ремне справа, револьвер поменьше слева, дымчатые очки в золотой оправе, — он появился в сопровождении колоритной охраны: бородатых, перепоясанных пулеметными лентами, кровожадно сверкающих глазами пуштунов. Исмат будто сошел с экрана старого фильма о нашей Гражданской войне: он не за красных и не за белых, он сам по себе, и у него в отряде шестьсот сабель.
Когда мы закончили разговор, один из кровожадных пуштунов Исмата неожиданно бросился к нам, быстро залопотал по-русски о том, что ему здесь страшно, грязно и плохо и хочется обратно в Союз, где он учился в военном училище, а затем был направлен в Кандагар для укрепления политически незрелой армии Исмата Муслима, ныне члена Революционного совета республики.
Городок аэропорта построен еще в шестидесятых годах американцами. Клеймо «Сделано в США» стоит даже на фонарных столбах. И на «стингерах», которые сбивают самолеты с клеймом «Сделано в СССР», — две торговые марки этой войны.
* * *К вилле, где мы живем, приставлен обслуживающий персонал: по-стариковски мудрый Баба, постоянно жующий «чаре» — легкий наркотик, что-то вроде анаши. Есть еще «рафик бача Дауд» — «товарищ мальчик Дауд», смешной парнишка с оттопыренными ушами. Еще — смышленый шестнадцатилетний симпатяга Измарай, с которым мы подружились. Все они готовили нам рис и кур, резали арбузы и мыли виноград, ухаживая по высшему разряду, едва ли понимая, кто мы такие и зачем пожаловали. По вечерам я подходил к костру, у которого колдовал Баба, он каждый раз просил водки, а потом обучал меня пуштунским словам, и все страшно радовались, когда я произносил что-нибудь не так на этом тарабарском наречии. Все это могло бы стать рассказиком. Там был бы и невозмутимый Баба, и яркие звезды в ночном кандагарском небе, и грязная лужа, из которой Дауд зачерпывал ведром воду для нашего чая, и огромные медные котлы, в которых кипел, булькал рис…