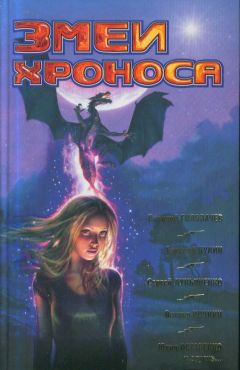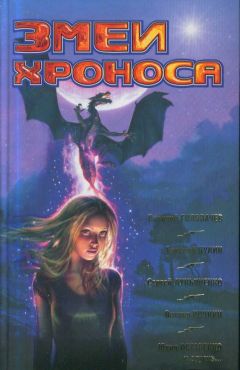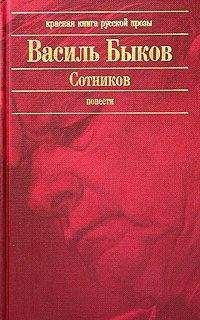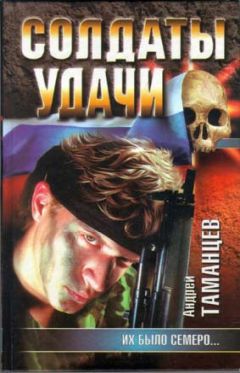Василий Решетников - Что было — то было. На бомбардировщике сквозь зенитный огонь
Василий Иванович, несмотря на свое комиссарское происхождение, был счастливо неспособен на многословие, и его доклад, простой, лаконичный и совершенно понятный, не вызвал у маршала желания искать в нем какие-либо погрешности.
Но неожиданно Жигарев поднял меня. Он подошел ко мне и задал два или три вопроса, в том числе и о прежней службе, из которых можно было понять, что обо мне ему кое-что известно. Никогда раньше мне не приходилось видеться с ним, хотя однажды довелось говорить по телефону. Дело было в начале лета, когда комдив Николай Иванович, отправляя меня во главе трех или четырех экипажей в первую командировку за новыми машинами на Куйбышевский завод, вкатал в полетные листы, оберегая нас, а более всего себя, от малейших летных неприятностей, такие несусветно перестраховочные ограничения условий полета, что сразу стало ясно — с ними мы не сможем даже проситься в воздух. Полет был рассчитан почти на безоблачную погоду от взлета до посадки. Уговорить Николая Ивановича хоть немного ужесточить летные условия мне не удалось. С тем я и улетел на завод, понадеясь на снисходительность, а более всего на слабую бдительность заводского начальства. Но обвести никого не удалось. Уже на принятых машинах нас с завода не выпускали. Стыдно было показывать полетный лист директору Белянскому, обнажая себя, согласно документу, слабым и ненадежным летчиком, но он меня понял, тут же вызвал по телефону «ВЧ» маршала Жигарева и, объяснив ему ситуацию, передал трубку мне. Командующий выслушал мой доклад и, на время остановив разговор, вызвал кого-то к себе, стал наводить справки. В конце заключил в трубку:
— Решение принимай сам. Прилетишь — доложишь. — И снова попросил Белянского.
— Вот это другой разговор! — широко улыбаясь и с подъемом в голосе, произнес Александр Александрович, когда связь была окончена. — Вот ты теперь и решай. Давай полетный лист!
Сославшись на имя командующего Дальней авиацией, Александр Александрович под мою диктовку выправил, да покруче, сажинские предписания и разрешил вылет.
Вряд ли маршал Жигарев помнил этот эпизод, но, видно, в памяти его что-то отложилось. Когда я закончил доклад, ответив на поставленные вопросы, он вдруг повернулся в сторону командующего воздушной армией Аладинского и, делая ударение на последнем слове, резко спросил:
— За что ты его снял?
Аладинский растерялся, долго собирался с мыслями и начал было издалека, но Жигарев в той же жесткой интонации повторил свой вопрос. До существа Аладинский так и не добрался. Сцена была гнетущей, и все, а тем более я, почувствовали себя неловко, но на этом диалог оборвался, и Жигарев перешел к другим делам.
Спустя недели две, а может, месяц Николай Иванович Сажин, Василий Иванович Морозов и я, по очереди, с интервалами, были вызваны в Москву. Сажина назначили командиром корпуса, Василий Иванович принял его дивизию, а я — этот же полк. Позже случилась перемена и в воздушной армии — туда пришел новый командующий.
Работать стало труднее. От летных забот я не отошел, а взвалив на себя все остальное, почувствовал, как коротки были сутки. К тому же произошли передвижки и в управлении полка. Смена «караула» на некоторых ключевых постах оказалась неудачной, общей «тяги» поубавилось, и мы потихоньку поползли вниз. Для начала полк пару раз провалился на крупных министерских учениях — лихо промазал во время бомбометания по радиолокационной цели на «чужом» полигоне. И хотя мы были не в одиночестве, нас это слабо утешало. Резонанс вышел гулкий — аж на все ВВС. Остряки не упустили случая тот провал (поскольку полигон лежал в сталинградских степях) окрестить горькой шуткой: «Закат полка под Сталинградом».
Загадок не было. Рановато поверили штурмана, будто они уже приручили тот чертов «кобальт», и потому слишком самонадеянно обошлись с незнакомым полигоном, а там и цели как-то странно светили, и подозрительные засветки, сбивая с толку, ползали по экранам, да и ветры на боевом пути вели себя совсем не так, как на нашем, привычном.
Пришлось перетряхивать штурманские группы в каждом экипаже, докапываться на разборах до малейших просчетов, даже если они вели к хорошему результату, но не дотягивали до пятерочных. На публичных анализах собственных ошибок, в спорах друг с другом обнажались немалые методические промахи, о которых мы не подозревали. Конечно, стали почаще наведываться в «чужие» веси — побомбить, поприцеливаться.
Что-то уже шевельнулось, мы снова начали «набирать высоту». Окреп средний балл качества боевого применения, и не дай бог кому-то потянуть его вниз: сам же, дрожа от нетерпения, будет ждать следующего залета на полигон, чтоб реабилитироваться перед всем полковым миром и своей совестью. Завязалась молчаливая, но острая борьба без всяких там «повышенных обязательств» за самую лучшую серию бомб. Отличных, по нормативам, полк с полигонов привозил немало, но среди них всегда выделялась та, что накрывала самый центр цели или ложилась ближе всех к нему. На разборе «чемпион» возвеличивался и презентовался хрустальным кубком или вазой — изделиями в те годы вполне доступными, на которые в полковой казне всегда хватало наградного бюджета. Был в этом, скорее всего, некий спортивный заряд, если не сказать, азарт, в котором любой, даже самый молодой, штурман имел возможность публично «обштопать» всех именитых бомбардиров, ну а уж те старались не оплошать.
Полковая шкала оценок боевого применения поднялась довольно высоко, по крайней мере выше, чем у других, и держалась устойчиво, но по инерции сталинградских впечатлений нас все еще не хотели замечать. Да мы на глаза начальству и не лезли.
К тому времени удалось укрепить управление полка, обрели хороший запас прочности и все другие звенья полковой структуры. Пришли к нам два замечательных Андрея: начальник штаба Иришин и замполит Никишин. Один внес четкий ритм в работу штаба и полковых служб, другой, избавив нас в меру своих возможностей от казенных формальностей, к которым и сам относился с иронией и скепсисом, плотно и продуктивно работал вместе с полком и, в отличие от его предшественника Егорова, норовившего вогнать даже летное время в тотальные политзанятия, знал цену времени и конкретному делу. Однажды, незадолго до появления Никишина, когда после нескольких дней ненастья вдруг проглянула долгожданная летная погода и я, сдвинув плановые часы политучебы на другое время, дал команду готовить полк к полетам, Егоров вознегодовал, обвинил меня в политическом недомыслии и, не сумев «образумить», бросился к телефону с жалобами начальнику политотдела дивизии Тарасенко. Тот не замедлил вызвать нечестивца на ковер и, учинив бурную выволочку, приказал немедленно закрыть полеты и приступить к политучебе. Это был еще один крепкий урок по части «единоначалия на партийной основе». Уже в двери, вдогонку, Тарасенко мне резко бросил:
— Я выбью из тебя эту тихоновщину!
Вот оно что! За мною следовала тень Василия Гавриловича. Видно, крепко был он не в чести у политработников, коль «покатилась дурная слава» в чужой политотдел, заодно прихватив и мое имя.
Но что за глупое заблуждение! Да, был Тихонов строг и крут с ленивцами и нахалами, к какому бы «клану» — командирскому ли, штабному или техническому — они ни принадлежали, а попадись на безделье политработник — и его не жаловал. Но ревнители их корпоративной чести всегда в том видели нечто большее, чем армейскую строгость — чуть ли не покушение на сами «основы», а того не замечали, что среди его близких друзей бывали и политработники. Толковые, конечно, не зацикленные.
Егоров, слава богу, пошел с повышением, а с Андреем Семеновичем мы работали очень дружно. Он, по-моему, знал самое важное — не мешать главному делу, а на ритуальные мероприятия он всегда умел находить время.
Нам удалось отстоять у командира дивизии нижний этаж новой казармы, чтобы оборудовать в нем офицерский клуб. Полк без клуба — не полк. Там же родилось знаменитое на всю воздушную армию детище Никишина — офицерская художественная самодеятельность, которую на различного рода смотрах и конкурсах долгое время никто не мог обойти.
В общем, нас все-таки заметили и возвели на самые высокие ступени армейского «пьедестала почета». Теперь нужно было держаться.
В конце года, как всегда, наступила пора учений. Поднимаемся всем полком и на исходе радиуса полета выходим бомбить радиолокационную цель на чужом, доселе ни разу не посещенном полигоне. Со знакомым трепетом в душе, но с чувством уверенности (была бы цель как цель!) ложимся на боевой курс. Мои штурмана не ропщут: цель «светит» ярко, ветерок не вихляет, связь чистая — без перебоев. Бомбы моего корабля открывают «парад». Все идет по графику времени. Я вслушиваюсь в доклады: бомбят без пропусков, один за другим, никто не «прохолостил». Наконец — замыкающий. Полк вытягивается на последнюю прямую и тянет к дому.