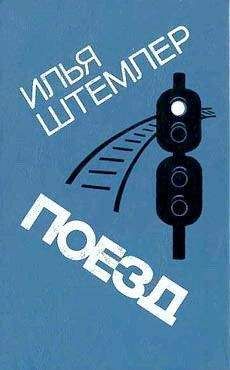Богдан Сушинский - Путь воина
– Но, выйдя из лагеря, мы окажемся совершенно беззащитными перед превосходящими силами казаков и татар, – возразил Калиновский еще до того, как коронный гетман завершил свою речь. – Уверен, что они даже не станут ввязываться в серьезное сражение, а постоянно будут терзать нашу колонну обстрелами издали и наскоками на обозы и артиллерию.
– И у них будет преимущество, – добавил полковник Адамицкий, ведавший охраной обоза, – поскольку они-то налегке, а мы – скованы тяжелогружеными возами и артиллерией.
– Чего же мы добьемся, сидя в лагере? – нервно поинтересовался Потоцкий, обращаясь к Калиновскому. Мнение полковника его совершенно не интересовало. – Вы же видите, что казаки получают подкрепление почти ежедневно. А как только подойдет войско крымского хана, они станут наседать на нас днем и ночью, не позволяя высунуться за валы.
– А я и не предлагаю ждать, когда прибудет армия Ислам-Гирея. Мы должны завтра же атаковать лагерь казаков. Причем сделать это быстро, нанеся основной удар еще до того, как вступят в бой татары, которых может придержать гарнизон, оставшийся в лагере, – довольно вспыльчиво объяснил свой взгляд на выбор исхода польный гетман.
– Бросившись на штурм казачьего лагеря, мы расчленим свои силы, – вступил в спор князь Корецкий. – Взять лагерь с первого штурма не удастся, поскольку у казаков сильная маневренная артиллерия и мощные укрепления из повозок. Идти с саблями против вил, оглобель и рогачей, штурмуя ограждения, – это значит идти на гибель.
– Тем более что татары могут обойти наш лагерь и ударить нам в тыл, преградив путь к отступлению.
– Зато здесь мы будем сражаться в боевом строю. А в походной колонне мы вообще окажемся беззащитными и беспомощными, как колония муравьев под копытами табуна, – парировал Калиновский. – Неужели вам мало сражения под Желтыми Водами? Ведь если бы вместо того, чтобы бежать из лагеря, Стефан Потоцкий пошел в наступление или же сражался в лагере, то сейчас мы не видели бы перед собой столь мощную армию Хмельницкого. Пусть бы он потерпел поражение, зато сохранил бы честь польской армии и обескровил повстанцев. Говорите прямо: вы что, хотите, чтобы наше войско покрыло себя под Корсунем таким же позором, как и под Желтыми Водами? Если так, тогда мне просто-напросто нечего больше делать в такой армии. Ибо такой армии польный гетман не нужен.
Еще почти час продолжался этот спор, порождая сторонников как Потоцкого, так и Калиновского. Но в конце концов печальный пример Желтых Вод все же заставил большинство высокородных проявить осторожность и больше склоняться к тому, чтобы принять бой в лагере, делая вылазки и вынуждая казаков к переговорам.
Почувствовав, что совет может окончательно остановиться на предложении польного гетмана, Потоцкий вновь подхватился.
– Я выслушал мнение каждого из вас, господа. Выслушал внимательно, и весьма признателен вам за откровенность. Однако высшие интересы Польши, ответственность за судьбу армии и судьбу этой войны вынуждают меня принять то единственно верное решение, которое, будучи коронным гетманом, я не могу не принять. Завтра на рассвете мы оставляем лагерь, оставляем здесь все тяжелые возы и, создав походный лагерь из повозок, внутри которого будут двигаться пехота и артиллерия, – уйдем в сторону Богуслава. Прикрывать эту походную крепость будет конница.
– …Которую татары и казаки станут расстреливать до самой Белой Церкви, даже не позволяя нам остановиться и создать нормальный укрепленный лагерь, – язвительно прокомментировал это решение Калиновский. – Завтра же на рассвете я прикажу полкам драгун и пехоте пойти штурмом на казачий лагерь. Если мы и будем отступать, то с боем.
– Приказывать здесь имею право только я! – побледнел во гневе граф Потоцкий. – Только я, великий коронный гетман, имею право вывести войска из лагеря и направить туда, куда сочту необходимым. Завтра же, как только мы протрубим сбор, каждый из вас должен быть на своем месте. И пусть только кто-нибудь осмелится не выполнить мой приказ!
* * *Распустив военный совет, Потоцкий какое-то время сидел в одиночестве – состарившийся, опустошенный, угнетенный страшными предчувствиями.
Он добился своего. Он настоял. Как и положено, его слово оказалось последним и решающим. Однако сейчас, оставшись наедине со своими сомнениями, коронный гетман вдруг с ужасом подумал, что, возможно, его упрямство и станет главной причиной гибели армии, которая здесь, в укрепленном лагере, за валами, рвами и повозками, еще имела хоть какой-то шанс выжить, добиться перемирия или хотя бы просто спокойно молиться в промежутке между боями. Что, оказывается, тоже иногда немаловажно. А там, за стенами полевой цитадели… Что будет там?
– Если уж уходить, то лучше всего – через урочище Гороховая Дубрава.
«Кто это произнес?» – Потоцкий с трудом прервал поток своих сумбурных размышлений и, подняв голову, увидел при свете угасающих факелов приземистую фигуру своего казака, слуги, воина, посыльного, порученца и просто человека, который напоминал ему о доме, о родовых дворцах в Каменце и Варшаве. О многом таком, что начинаешь ценить только на войне, да и то в самый трудный момент.
– Урочище? – спросил уже вслух. – А где здесь урочище?
– Километрах в десяти отсюда.
– Что, очень удобное место для западни? Как урочище Княжьи Байраки под Желтыми Водами?
– О таком урочище – Княжьи Байраки, я, господин граф, ничего путного не знаю. А в этих, которые под Корсунем, бывать приходилось. Как-то с реестровым полком своим бунтовщиков в них вылавливали.
– Бунтовщиков? Значит, это урочище еще более погибельное, чем то, что под Желтыми Водами, – окончательно пал духом коронный гетман. – Будьте вы все прокляты на земле этой сущие, вероотступники и христопродавцы.
Зарудный раздосадованно покряхтел, потоптался у входа и пробубнил:
– Командующий – вы, а значит, вам виднее. Спать прикажете в шатре или в хижине? Чтобы на случай обстрела из орудий…
– На смертном одре. Такой сон тебя наверняка возрадует, а, казак-христопродавец?
– Скорее сам на него лягу. Разве я когда-нибудь предавал вас? Хоть в чем-то перед вами провинился?
Потоцкий покряхтел точно так же, как только что кряхтел один из его надворных казаков.
– Что это за урочище? Ты действительно бывал в нем? Ах да, ты же и родом отсюда, из-под Корсуня.
– Если казаки слишком насядут на нас, мы сможем разбить лагерь посреди урочища. Во многих местах там болота, по которым Хмельницкий ни орудия не провезет, ни конницу свою не пропустит. Татары в лесу, да еще густом, болотном, – не вояки. Пройдем урочище – там и до Белой Церкви на один переход. Замок, гарнизон, ополчение…
– Дорогу до этого урочища знаешь?
– Чего ж не знать? Совсем недавно на охоту с молодым графом Стефаном выезжал, царство ему…
– Так это, значит, вы туда на охоту выезжали… – полусонно пробормотал командующий. Даже упоминание о сыне в этот раз не растревожило его. – Ведь предашь же, русич?
– Служил вам верно, и погибать буду с этой же верой. Вот вам крест.
– Крест?! Да что мне твой крест?! Но кто-то же должен повести. Пойдешь в авангарде, у стремени полковника Бержевского. Но знай, что бы с нами ни случилось, первая сабля падает на тебя.
– Это уж как водится, – смиренно согласился Зарудный. – Да к тому же, на войне. Добро бы еще ваша сабля, чтобы острием – как святым перстом.
«Предаст и продаст, Иуда, – почти с ненавистью посмотрел ему вслед Потоцкий. – Как предали сотни других реестровых казаков; как покинули в самые трудные минуты моего сына Кричевский и Джалалия. Как предал меня и всю Речь Посполитую этот поляконенавистник Хмельницкий. Я почти уверен, что он предаст, но не изрублю его сейчас. Не возведу на костер, не исполосую каленым железом. Нет-нет, так и пойду за ним на погибель свою, на срам великий. На падение славы и вознесение души. Видно, уже завтрашний день будет таким, что войдет в историю Польши как день избиения невинных. Еще один фатальный день несчастного, как сама Польша, рода Потоцких. Но что я могу поделать? Кто укажет мне, где путь истины и спасения, а где – предательства и гибели?»
23
Валы были разрыты, рвы засыпаны, весь огромный лагерь вдруг оказался вскрытым, словно гнойная рана земли, которая выдавливала и выдавливала из себя все то, чем она, эта земля, была пресыщена, и что – обреченное на гибель и тлен – уже не могло быть принято ею, прощено и заупокойно отпето ветрами великой степи.
Они выходили и выходили из-за земляных насыпей, представлявших собой как бы гигантские ворота лагеря, – конники, повозки, нагруженные всем тем, что привезено было из собственных имений и награблено уже в походе. Со всем тем богатством, которым могли оказаться загруженными обозы только одной-единственной, наиболее растленной и падшей в роскоши армии мира – польской. Семенящая за возами челядь, пехотинцы, кареты, артиллерийские повозки и санитарные кибитки; и снова ряды пехоты, за которой следовала густая лава кавалерии.