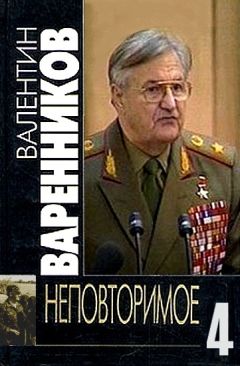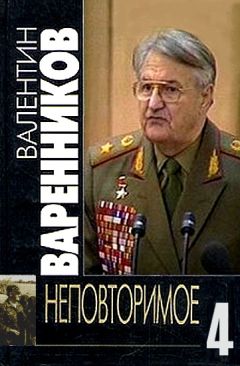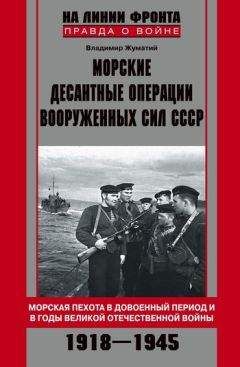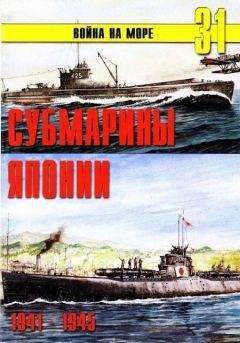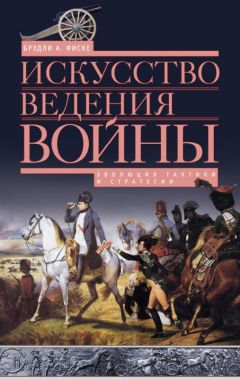Рувим Фраерман - Избранное
Выстрела Никичен Олешек уже не слышал. Он очнулся от снега, набившегося в рот. Никичен помогла ему выбраться. Он встал. Попробовал руки и ноги. Они были целы. Только кожа на голове рассечена копытом. Кровь заливала глаза. Олешек ладонью стер ее, посмотрел на бледную Никичен, на огромного зверя, лежавшего у ног, и сказал:
— Зачем есть столько мяса, когда можно есть муку? Разве свалить сохатого легче, чем ель?
Испуг Никичен прошел. Но лицо ее оставалось бледным и задумчивым.
— Это так, — сказала она, — если ты говоришь правду.
Потом они молча сидели у мертвого лося, пока не пришел с оленями Хачимас.
Тогда Олешек спросил:
— Пойдешь ли ты за мной, Никичен, или останешься здесь?
— Дважды ради красных отнимал ты у меня севокина, — с горечью ответила Никичен. — Кого же я приведу в твое стадо?
И Олешек сказал ей, как говорят всем девушкам:
— Сердце твое — самый верный, самый резвый севокин. Как сетью обходят черного соболя, окружу я тебя любовью и счастьем.
И Никичен заплакала, ибо долго ждала от Олешека этих слое. Ее пугала незнакомая жизнь, к которой звал он ее, но она отдала ему каптаргу и смело пошла за ним, как идет за овеном жена. Хачимас же, вовсе не думая долго, положил свой старый котел на оленя да палатку из ветоши и тронулся в путь с Никичен. Олешек добрый охотник и, должно быть, знает тропу, по которой ведет их.
Они пришли в Чумукан, когда море было еще подо льдом.
Никичен не узнала старых мест. Прибавилось много домов. За отмелью в снегу стояли бараки рыбалок. В доме Грибакина был новый совет и жил настоящий учитель — молодой толстогубый якут. А бэтюнцев не было. Они перебрались на Шантары, и нартовая дорога вела туда по льду.
Лесистые Шантары! Сколько раз Никичен видела над бледным морем их лиловую пустынную кайму.
Теперь она гнала оленей по просеке. Пихты на Шантарах шумели так же, как на Шевели.
Олешек шел впереди на лыжах. Он показал Никичен на край просеки. В просвете, где сквозил белый берег, она увидела дома и красную трубу, такую высокую, что приняла ее сначала за сосну.
И вдруг раздалось над просекой долгое гудение, более громкое, чем голос изюбра. Олени шарахнулись в сторону, и вместе с ними побежала Никичен.
Олешек догнал ее в лесу.
— Не бойся, — сказал он. — Это только полдень — час обеда.
Новый городок стоял на самом берегу. Он был больше Чумукана и показался Никичен огромным. Она видела на улицах русских рабочих в тулупах, тунгусов в дохах, гиляков в унтах из рыбьей кожи и удивлялась почету, с каким встречали люди ее бедно одетого мужа. Она не знала, что Олешек был секретарем первой тунгусской комсомольской ячейки. Для тунгусов завод построил избы. Гиляки[55] же поставили юрты, крытые дерном, а дымоходы провели под нарами.
Олешек жил один в маленьком доме. Никичен долго не могла привыкнуть к русской печке, к бревенчатым стенам. Дым никогда не ночевал под крышей Никичен, и все же в избе ей казалось жарко. Она садилась на пол, как в урасе, и часто выбегала освежиться.
Но тут родила она сына и привыкла к этому жилью.
Она украсила пол камаланами, обила дверь оленьей шкурой. Сыну же сделала тунгусскую люльку и набила ее опилками.
Олешек стал во главе тунгусской артели лесорубов. Ему стоило многих трудов научить беспечных, веселых овенов работать изо дня в день.
На соседней делянке рубила лес гиляцкая артель. Эти кривоногие, с замкнутыми лицами люди работали лучше тунгусов. И это огорчало Олешека. Каждый раз, выходя с артелью на работу, он говорил тунгусам:
— Вы смеетесь над гиляками, что у них кривые ноги. Но крепки ли у вас руки, как у них?
— Как можешь ты сравнивать овена с гиляком, который не охотится на зверя? — отвечали тунгусы. — У нас крепче руки и ноги, и сердце наше веселей, лица наши приветливей.
— Так ли это? — с сомнением говорил Олешек. — Почему же они рубят лес лучше, чем мы?
И тунгусы старались: никто быстрее их не мог валить лес, очищать кору, находить «табак» — больной сучок на стволе, обозначавший, что этого дерева не надо рубить.
Бревна волоком тащили по снегу олени. Гиляки впрягали собак. Русские строили ледяную дорогу.
Завод находился на берегу, под сопкой. И наверх, где рубили лес, доносился тонкий звук механических пил. Гиляцкие лайки отвечали на него воем.
С осени Никичен тоже ходила с артелью Олешека рубить лес. Но часто она бросала работу и пропадала на полдня. То собирала бруснику, то забиралась в глухой ельник, где находила глупых птиц — дикуш. Они садились низко и не боялись ни крика, ни выстрела. Никичен сбивала их с ветвей палкой, как мальчики сбивают яблоки. А если долго не попадала, то делала петлю из волос, привязывала к длинному шесту и подсовывала к самому носу птицы. Дикуши из любопытства просовывали головы в петлю, и Никичен снимала их с елей, как хозяйки снимают с насеста сонных кур.
В артели работал и Чильборик. Но однажды он исчез и не появлялся всю зиму. А летом пришел веселый и сказал, что видел на острове Мухтикандо голубых лис. Их привез и выпустил на остров русский человек в очках[56]. А Чильборик ловил для них лесных мышей.
Улька не поверила ему.
Чильборик снова исчез на всю зиму и вернулся весной.
Он показал старухе кончик лисьего уха:
— Каждый полдень приходят лисы к дому русского, и я кормлю их мясом. Они уже знают мой голос. А лиса Сарачок совсем не боится меня. Она изгрызла мои торбаса и съела мясо, которое я сварил себе на обед. И вот — ее ухо. Посмотри, так ли она голуба, как и жадна?
Улька положила лисье ухо на белый миткаль и сказала:
— Да, она — как тень на снегу…
Весной, когда кончилась рубка леса, артель ловила горбушу. Но женщины не сушили юколы. Консервный завод становился на якорь у Шантар, и тунгусские оморочки, полные рыбы, плыли к нему, ныряя, как поплавки.
Часто и Никичен отвозила туда рыбу. Но, помня шхуну Гучинсона, она избегала всходить на пароход.
Однажды ее позвали наверх. Она со страхом поднялась по трапу. Пароход не был похож на ту шхуну, и любопытство охватило Никичен. Она шла по скользкой палубе. Рослые девушки в резиновых сапогах пластали за длинными столами рыбу. Чешуя одевала их руки и грудь.
Никичен заглянула в люк поваренного цеха. Там был ад. Из ада несло незнакомым запахом — лавровым листом и перцем. В сумраке двигалось полотно с жестянками. Как лужа крови, стоял отсвет топки под котлом.
Никичен долго не отходила от люка. Русские второпях толкали ее, называли гилячкой.
Потом она пошла на корму. Здесь, под тентом, стояли ящики и было тихо. Только один человек, наклонившись над низким столом, стучал стальными палочками по банкам. Он был в колпаке и в тростниковых туфлях на босу ногу. Сюда приносили ему открытые ящики с консервами и ждали, что он скажет. Но, прежде чем сказать, Он ударял по каждой банке. И каждая отвечала ему по-своему: то полным, то неполным звуком. Он говорил: «хорошо!» — и банку ставили в одну сторону. Он говорил: «плохо!» — и банку ставили в другую. Его слушались. «Должно быть, он мудр», — подумала Никичен.
И ей захотелось увидеть его лицо.
Она обошла вокруг стола. Изумление наполнило ее глаза. Это был Бунджи. Она назвала его имя с радостью.
Он взглянул на нее и не узнал.
— Я Никичен, — сказала она. — Помнишь ли ты, как вытащил меня из воды и высадил на берег в Аяне?
Тогда Бунджи отложил в сторону палочки, хлопнул себя по коленям. Серые уши его задвигались. Он засмеялся.
— Не тебе ли я говорил, что этот берег — мой?
— …И мой, — сказала Никичен. — Что ты делаешь тут, Бунджи?
— То, чему я научился дома. Но здесь я это делаю лучше, чем там.
— Почему? — спросила Никичен.
Бунджи ответил не сразу. Он задумчиво взглянул на Никичен.
— Потому что я большевик. Понимаешь ли ты?
— И ты как Олешек? — удивилась Никичен.
— Кто такой Олешек?
— Мой муж, — ответила она с гордостью. — Когда будешь на берегу — спроси, каждый тебе покажет его. Я зову тебя в гости. Приходи!
Бунджи ничего не сказал. Поднесли для сортировки новые ящики. Он взялся за палочки и заиграл на банках. Приплюснутое лицо его стало внимательным, а глаза сердитыми, как тогда, когда он спасал Никичен.
Но вечером он пришел. Олешек принял его радушно и назвал товарищем, Бунджи потом часто навещал Никичен. Он полюбил ее семью и каждый раз приносил в подарок консервы. А Никичен угощала его хлебом, который научилась печь, и мясом, которое получала в лавке. Она забывала свою бродячую жизнь. Но, угощая Бунджи, по-старому хвасталась посудой: ставила на стол медный чайник и фаянсовые чашки; раньше она бы их ни за что не взяла на вьюк — так они были тяжелы.
Олешек шутил над Никичен. Улыбаясь веселым ртом и узкими глазами, он спрашивал ее: