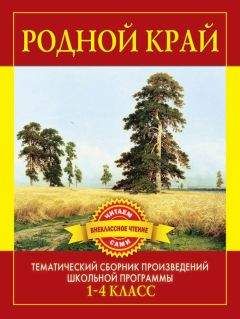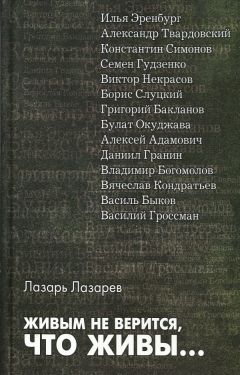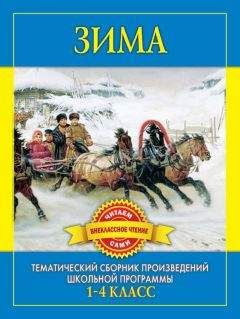Константин Воробьёв - Война. Krieg. 1941—1945. Произведения русских и немецких писателей
Кажется, здесь мы похоронили и Сеню Полесьева.
— Его ранило, в первой атаке на «аппендицит», — сообщил Володя, как будто это не знали. — Я даже помню дату — двадцать первого декабря.
— Еще бы, — сказал Рязанцев.
— Почему — еще бы? — поинтересовался я. — Что за дата?
— А ты забыл? — недоверчиво удивился Рязанцев. — Каков? — он обличающе указал на меня.
Комбат слегка хмыкнул.
— Вот как оно бывает, — Рязанцев вздохнул. — День рождения Сталина…
Я молчал.
— Считаешь, что можно не помнить такие вещи? — обиженно сказал Рязанцев.
Странно устроена человеческая память, думалось мне, потому что я помнил совсем другое.
Пошел дождь, мелкий и ровный. Мы стали под березку. Молодая листва плохо держала воду. Комбат достал из авоськи прозрачную накидку, он один запасся дождевиком, мы сдвинулись, накрылись. Сразу гулко забарабанило, мы поняли, что дождь надолго.
— Не вернуться ли, — сказал Володя, — сам бог указывает. Примем антизнобин, посидим, а?
Стекало на спину, пиджак промок, желтые лужи пенились, вскипали вокруг нас. Не было никакого смысла стоять тут.
Рязанцев покосился на молчащего комбата.
— Может, подождем?
— Подождем под дождем, — откликнулся Володя. — Ждать — не занятие для воскресных мужчин.
Следовало возвращаться. Оно и лучше. Прошлое было слишком хорошо, и не стоило им рисковать. Когда-нибудь мы приедем сюда вдвоем с Володей.
Комбат потрепал меня по плечу:
— Ничего, не сахарные.
— Что у вас за срочность? — спросил я. — Что-нибудь случилось?
Комбат смутился и сразу нахмурился.
— Ничего не случилось.
— Вы-то сюда уже приезжали?
— Приезжал.
— Так в чем же дело? Если ради нас, то не стоит, — сказал я с той заостренной любезностью, какой я научился в последние годы.
Исподлобья комбат обвел меня глазами, мой дакроновый костюмчик, мою рубашечку дрип-драй.
— Как хотите, — он перевел глаза на Рязанцева. — Ты тоже костюмчик бережешь?
Рязанцев фальшиво засмеялся, вышел под дождь, похлопал себя по бокам.
— А что, в самом деле. Не такое перенесли, не заржавеем, — он запрокинул голову, изображая удовольствие и от дождя, и оттого, что подчиняется комбату. — Нам терять нечего. Нам цена небольшая.
Мы стояли с Володей и смотрели, как они поднимались по ступенькам. Володя вздохнул, поморщился.
— Чего-то он собирался нам показать.
— Себя, — сказал я со злостью.
— А хоть и себя. — Володя взял меня под руку. — Все же мы его любили…
Да, за тем комбатом мы были готовы идти куда угодно. Если б он сейчас появился, тот, наш молодой комбат…
— А… помнишь, как мы с ним стреляли по «аппендициту»?
Что-то больно повернулось во мне.
— Ладно, черт с ним, — сказал я. — Ради тебя.
Мы догнали их у тропки. Мокрая глина скользила под ногами. Комбат подал мне руку.
— То-то же! Нет ничего выше фронтовой дружбы, — возвестил Рязанцев.
А комбат нисколько не обрадовался.
IIIМы перебежали шоссе, по которому, поднимая буруны воды, неслись автобусные экспрессы, и двинулись, поливаемые дождем, напрямик через поле. Странное это было поле, одичалое, нелюдимое. За железнодорожной насыпью местность стала еще пустынней и заброшенней. Слева белели сады с цветущими яблонями, поблескивали теплицы, впереди виднелся Пушкин, справа — серебристые купола обсерватории, здесь же, под боком у города сохранилась нетронутая пустошь, словно отделенная невидимой оградой. Кое-где росли чахлая лоза с изъеденными дырявыми листьями, кривая березка, вылезала колючая проволока; мы перешагивали заросшие окопы, огибали ямы, откуда торчали лохматые разломы гнилых бревен. Землянки в два наката. И сразу — запах махорки, дуранды, сладковатый вкус мороженой картошки, ленивые очереди автоматов, короткие нары, зеленые взлеты ракет. И что еще? Разве только это? А ведь казалось, помнишь все, малейшие подробности, весь наш быт…
Чьи это землянки? А где наша? Где наша землянка?
Я озирался, я прошел вперед, свернул, опять свернул, закрыл глаза, пытаясь представить ее расположение, то, что окружало меня изо дня в день, неделями, месяцами. «Все заросло, — вдруг угрожающе всплыла чья-то строка, — развалины и память…» Я-то был уверен, что, приехав сюда, сразу узнаю все; даже если бы это поле было перепахано, застроено, я бы нашел место нашей землянки, каждый метр здесь прожит, исползан на брюхе, был последней минутой, крайней точкой, пределом голода, страха, дружбы.
Володя окликнул меня. Я не хотел признаваться ему, и еще ждал.
— Послушай, а где «аппендицит»? — спросил он.
— Эх ты, — сказал я.
Уж «аппендицит»-то, вклиненный в нашу оборону, проклятый «аппендицит», который торчал перед нами всю зиму… Я посмотрел вперед, посмотрел вправо, влево… Вялая жирная трава вздрагивала под мелким дождем. Валялась разбитая бутылка, откуда-то доносились позывные футбольного матча. Все было съедено ржавчиной времени. Я рыскал глазами по затянутому дождем полю, где вроде ничего не изменилось. Я искал знакомые воронки, замаскированные доты, из-за которых нам не было жизни, даже ночью оттуда били по пристрелянным нашим ходам, мешая носить дрова, несколько раз пробили супной бачок, мы остались без жратвы и ползали вместе со старшиной, собирая снег, куда пролилась положенная нам баланда. Мы без конца штурмовали «аппендицит», сколько раз мы ходили в атаку и откатывались, подбирая раненых. Лучших наших ребят отнял «аппендицит», вся война сосредоточилась на этом выступе, там был Берлин, стоял рейхстаг. Из-за этих дотов мы ходили скрюченные, пригнувшись по мелким нашим замороженным окопам, и в низких землянках нельзя было распрямиться, нигде мы не могли распрямиться, только убитые вытягивали перепрелые, обмороженные ноги.
Я искал себя на этом поле и не мог отыскать, не за что было зацепиться, удержаться на его гладко-зеленой беспамятности. Когда-то насыщенное жизнью и смертью, разделенное на секторы, участки, оно было высмотрено, полно ориентиров, затаенных знаков, выучено наизусть, навечно… Где оно? Может, его и не было? Доказательства утрачены. А если б я приехал сюда со своими, — я со страхом слышал свои беспомощные оправдания…
— Но что, — приставал Володя. — Где?
Комбат — единственный, кто знал дорогу в ту зиму, кто соединил нас с нашей молодой войной. Мы догнали его. Покаянно, со страхом Володя спросил, и комбат указал на еле заметный холм, который и был «аппендицитом». Вслед за его словами стало что-то проступать, обозначаться. Поле разделилось хотя бы примерно: здесь — мы, там — немцы. Мы шли вдоль линии фронта, не отставая от комбата, и я готов был простить ему все, лишь бы он показал нашу землянку, церковь, участок первой роты, взвод Сазотова, вторую роту…
Развалины церкви сохранились, остатки могучей ее кладки, своды непробиваемых подвалов, лучшее наше убежище, спасение наше.
— Безуглый, — произнес комбат.
И сразу вспомнилось, как сюда ходил молиться Безуглый. Начинался обстрел, Безуглый вынимал крестик, целовал его. В землянке перед сном шептал молитву. Он ужасался, когда мы притаскивали с кладбища деревянные кресты для печки.
— Неоднократно я с ним беседовал, — сказал Рязанцев. — Из него бы можно было воспитать настоящего солдата.
— Он и без того был хороший солдат, — сказал я.
— Вы что же, религию допускаете?
Тогда мы тоже считали Безуглого темным человеком, одурманенным попами, и в порядке антирелигиозной пропаганды рассказывали при нем похабные истории про попов.
— Ты сам помогал отбирать у него молитвенник, — вдруг уличающе сказал Рязанцев.
— Я?
— Когда обыскивали, — неохотно подсказал мне Володя.
Они все помнили, значит, это было.
— Не обыскивали, а проверяли вещмешки, — поправил Рязанцев, — продовольствие искали.
— Ну, положим, не продовольствие, — сказал Володя, — а наши консервы.
— Это ты напрасно…
— Тогда у Силантьева свинец нашли, — отвлекая их, сказал комбат.
Интересно, как прочно вдавился этот пустяковый случай. Морозище, белое маленькое солнце, вещевые мешки, вытряхнутые на снег. Силантьев, сивоусый, кривоногий, в онучах, вывернул свой мешок, и комбат заприметил что-то в тряпице, вжатое в снег. Поднял, развернул, там был скатанный в шар свинец. «Вы не подумайте, товарищ комбат, — сказал Силантьев, — это я из немецких пуль сбиваю». — «Зачем?» — «Охотники мы». До самой Прибалтики тащил он с собою свинец.
И тут я не то чтобы вспомнил, а скорее представил, как рядом со мной Безуглый выкладывает из своего мешка обычное наше барахло — бритву с помазком, полотенце, письма, рубаху и среди этой привычности молитвенник в кожаном переплете с тисненым крестом. Я схватил его, начал читать нараспев: «Господи, дай нам днесь…», гнусавя ради общего смеха, «днесь» — слова-то какие! Что мне тогда были эти слова — глупость старорежимная. Подошел Рязанцев, перетянутый ремнями, и я торжественно вручил ему молитвенник, тоже, наверное, не без намека, да еще подмигнул ребятам.