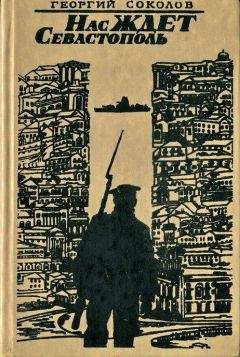Василь Кучер - Плещут холодные волны
Утром военврач 3 ранга Заброда уже был в порту, но, увидев трехвесельную шлюпку, которую прислали за ним с крейсера, пошатнулся. Перед глазами пошли желтые круги, стиснуло сердце, земля закачалась под ногами. Он испугался моря и этой шлюпки.
Заброда не решился сесть в шлюпку. Сказал, что у него неотложное дело в сануправлении флота и что он прибудет на крейсер позже, когда уладит все дела. Они могут возвращаться на крейсер.
Павло пошел в штаб и там дождался катера. Но и здесь ему пришлось собрать волю в кулак. Он сел на корме, зажмурил глаза, до боли сжал зубы. Когда катер отплыл, у Павла перехватило дыхание, поднялся в голове неумолчный шум. Ох, как страшно ему было идти морем на крейсер! Но дошел все-таки. И никто никогда не услышал от него, что пережил он в тот день, когда снова вернулся на родное море.
Глава пятнадцатая
Гитлеровцы все-таки сожгли дотла Сухую Калину, заняв ее вторично. А когда отступали под сокрушительными ударами наших войск, превратили село в сплошные руины. Люди ушли жить под землю. А вот у старой Домки Заброды праздник. Она побелила и принарядила землянку, и в ней стало чисто и светло. На окошке, вровень с землей, цветут калачики, радует глаз занавесочка из подсиненной марли. На стенах — вышитые рушники. На топчане новый ковер, который удалось сохранить. Фотографию Павла повесила в переднем углу. Павло жив. Он скоро в гости приедет. Об этом уже все село знает, а мать земли под собой не чувствует. День и ночь дожидается сына с того света. Уж не думала, не гадала, что встретит. А он, видишь, живой и счастливый на своем море. Но что с ним было тогда, когда похоронная пришла, так и не написал.
Первое письмо от Павла прибыло сразу, как только выбили гитлеровцев из Сухой Калины и, не давая опомниться, погнали дальше на запад. Оно было какое-то странное, это письмо. На конверте Павло написал «Заброде», а дальше перечислил все имена: Домке, Катерине, Ганне, Милане, Ивге, Явдохе. Да еще и приписал в скобках: «Всем Забродам, кто жив остался».
Мать с дочками до сих пор не могут понять, почему он так написал? И о себе известил как-то скупо и туманно, словно и вправду с того света вернулся. Жив, мол, мама, и здоров, чего и вам желаю. Ждите скоро в гости. И так странно просит: «Раньше, мама, вы пекли пироги на Петра и Павла, а теперь пеките еще и девятого августа, это день второго моего рождения. Пеките, мама, пироги в этот день и угощайте ими соседей и сирот, себе и людям на здоровье».
Что это значит? Какое второе рождение?
Не знала этого мать. Людей расспрашивала. Солдат и офицеров, которые проходили через село и иногда останавливались у ее землянки водички напиться. Но и они ничего не знали. Да и откуда им знать, они все на земле да на земле воюют, а Павло ведь на море. Там все не так, как на земле. Там не расспросишь и следа не найдешь. Недаром же Павло однажды, когда из Ленинграда ехал в Севастополь, а мать ему что-то такое сказала, возьми и ляпни: «Море, мама, следов не оставляет…» Ох, где уж, сынок! Может, на волне своей оно и не оставляет следов. А на сердце людском одни рубцы от этого…
Дни и ночи проходили теперь для Домки в радостном, тревожном ожидании. Но Павло и сам не ехал и писем больше не присылал. Что бы это могло значить?
Средь бела дня прибежала как-то с работы Катря. Не одна, привела главного врача-хирурга, патронажную сестру, фельдшера. Весь больничный персонал собрался у Домки в землянке, словно на какое-то торжество. Больница помещалась невдалеке, в доме колхозного правления, который каким-то чудом уцелел от пожара, потому все и пришли прямо в халатах. Домка даже перепугалась.
— Ой, мамочка, слушайте же! — вскрикнула Катря. — Павло журнал прислал. Вот он. Смотрите. Называется «Военно-морской врач». Том четвертый. Тут все написано, мама. Сам Павло писал…
— Павло?! Что ж он там писал, твой Павло? — нахмурилась Домка. — Не мог матери в письме написать, а сам взял да и пустил на весь свет?! Хорош сын, нечего сказать… Да что он там написал?
— Про голод, мама.
— Про голод? — побелела мать. — Про какой голод?
— Это он для людей написал, — сказал главный врач. — Не сердитесь на него, мамаша. Мы все хотим послушать, а в больнице не дадут…
Устроились на лавке, на топчане, а Катря — у окошечка. Развернула журнал, на обложке которого синело море, летела чайка и реяла черная муаровая ленточка с золотым якорьком. Все притихли, сосредоточились. А мать затаила дыхание, сидя у самого порога на маленькой скамеечке.
Катря откашлялась и начала читать:
— «О продолжительном голодании в море. Капитан медицинской службы П.И.Заброда. Медико-санитарное отделение Черноморского флота».
Катря остановилась и, взглянув на мать, спросила:
— Ясно, мама?
— Ясно, — тихо ответила мать. — Это ведь Павло наш. Читай, дочка, дальше. Читай…
В полной тишине Катерина прочитала все от начала до конца.
Произнеся последнее слово, она заморгала глазами, стала глотать слезы, закрываясь платком.
Все громко и горько вздохнули.
Только мать сидела у порога словно каменная.
Главный врач пошевелился:
— Горький опыт. Такого не увидишь в клинических условиях.
— Ой, люди! — всхлипнула мать и привалилась к стене.
Главный врач подбежал к ней и, выхватив какой-то пузырек, дал понюхать. Домка отпрянула от него, еле слышно сказала:
— Не трогайте меня, люди. Не трогайте…
— Мама! Да какие же вы! Тут научная статья, а вы ойкаете, — раздраженно бросила Катря и, захлопнув журнал, добавила: — Все, конец, товарищи…
— Нет, подождите, — сказал главный врач. — Мне не все ясно.
— Что именно? — рывком поднялась Катерина.
— Мне не ясно, в каком госпитале или клинике его лечили. Тут что-то не так. Наши врачи не могли его так лечить. Вот проследите за рецептурой и режимом и увидите, что он сам себя лечил…
— Что вы хотите сказать?
— Я ничего не хочу сказать. Только мне кажется, что его подобрал не наш корабль. Наши бы не допустили такого лечения.
— А чей же это корабль? Немецкий?
— Нет. Это исключено. Фашисты наших не лечат, а убивают. Это известная истина, — глухо объяснил врач.
— Так что же тогда получается? — растерянно развела руками Катерина. — Может, скажете, его турки подобрали…
— Возможно. Все возможно, — отошел от окна врач.
— Ой боже! — всплеснула ладонями мать. — Вы слышите, люди? Ему еще турков не хватало. Сыночек мой!.. — Помолчала немного и, словно что-то вспомнив, тихо прибавила: — Так это выходит, что он, сыночек мой, Павлушенька, двойной голод терпел. Сначала тело его страдало без хлеба, без воды, а потом… А потом душа его тужила, плакала по родному краю на чужбине, среди турков, этих нехристей…
В землянке стало тихо, люди задумались, поняв всю силу неизъяснимых мук и страданий, которые мать первой почувствовала своим любящим сердцем.
Да, голод моральный, духовный был, наверное, страшнее физического. Теперь они поняли, через какой адский огонь прошел человек, который написал эту статью. Никто не решался нарушить молчание.
А мать вышла к воротам, где теперь остались два обгорелых столба. Не заметила, когда разошлись врачи. Все стояла и стояла, кого-то дожидаясь. Но никто к ней не приходил.
Она ждала долго, как умеют ждать только матери.
* * *…Писатель Крайнюк метался в страшном жару в холодной, нетопленной квартире. Это было не тяжелое ранение бомбой или снарядом, а обыкновенное воспаление легких, которое он схватил, скитаясь по полесским селам и хуторам. Дожди, зимняя пурга били его в открытом поле, пробирали до костей на крестьянской телеге, не давали покоя и на грузовиках, когда случалось иногда подъехать от села до села или из района в район. А шинелька-то у него хоть и морская, но ветхая. На такие морозы и ветры нужны были хорошие шуба и валенки. Но где их возьмешь?
Другого выхода у Петра Степановича не было. Он хотел увидеть собственными глазами, что происходит в селах и колхозах; как на руинах войны, что недавно прокатилась здесь, начинается новая жизнь. Вдовы и сироты сводили коров, запрягали их в плуги и пахали землю. А где коров не хватало, там копали лопатами. Но везде шла вспашка, сеяли, начинали жить заново.
Постепенно возвращались с фронта демобилизованные: тот без руки, тот без ноги. Принимались за посильную работу. Вечерами уж и песня звенела по селам. Кое-где и свадьбы играли.
Среди тех, кто вернулся с фронта, Крайнюк встречал и моряков. Одни с Балтики, другие с Северного флота, но были и черноморцы. С ними Крайнюк быстрее находил общий язык, и они просто и откровенно рассказывали ему о своей теперешней жизни. А она, эта жизнь, была сурова, сложна, иногда даже труднее фронтовой. Рабочих рук в колхозах не хватало, машины были разбиты, семян и фуража в обрез, а земли сколько было, столько и осталось. Надо было теперь все привести в порядок. Вот люди и сушили себе головы. Более проворные отправлялись в районы, области, а то и в Киев, обивали там пороги министерств, управлений, выпрашивая для своего колхоза то машину какую-нибудь, то элитные семена, то породистых коров или овец на развод. Другие, более спокойные и не такие говорливые, оставались дома, сплачивая вокруг себя всех односельчан на работу в поле и на фермах.