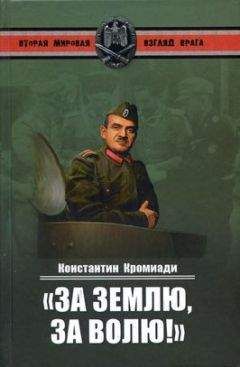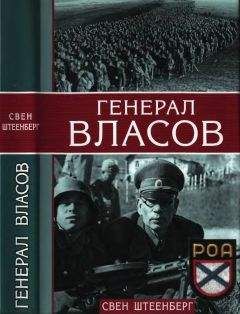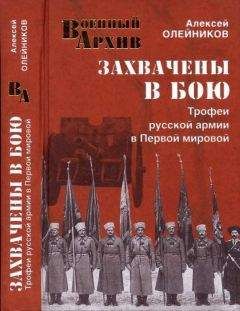Александр Казанцев - Третья сила. Россия между нацизмом и коммунизмом
Второй вариант сложнее и рискованнее.
По возвращении в место формирования армии Меандров составит небольшую ударную группу из молодых офицеров, членов организации, и пришлет ее в Берлин. Я должен их встретить и ввести в курс дела, следя одновременно за возможными переводами и перемещениями заключенных. В случае прорыва Красной Армии на Одере и угрозы Берлину офицерская группа во время бомбардировок, которые стали опять ежедневными, ворвется в помещение тюрьмы и выкрадет сидящих друзей.
В этом плане нет ничего фантастического. При правильной постановке дела попытка может иметь успех. В ней много риска только потому, что при неудаче последствия для друзей предвидеть трудно.
На следующий день он был в тюрьме. Следователь, как мы и ожидали, был не совсем в курсе дела о сложившихся между нами и немцами взаимоотношениях, и прием был подающим надежды. Но решение зависело, конечно, не от него. Приходилось ждать и терять дорогие дни.
Андрей Андреевич после нашего признания отнесся к предпринятому нами шагу благосклонно. О втором варианте мы ему не рассказали.
Ударная офицерская группа была Меандровым создана и в Берлин отправлена. Она провела всю подготовительную работу для вооруженного налета на тюрьму Александер-плац. В начале декабря как-то вечером, после обычной перебранки и торговли с цензором по телефону, я получил от него неожиданное приглашение:
— Если мы о газете и статьях говорить кончили, то я должен вам передать еще кое-что.
— Что же именно?
— Мне ведено передать вам приглашение на съезд иностранных журналистов, который будет происходить на днях в Вене. Сейчас я пошлю вам пригласительный билет, программу, повестку дня и прочее.
Поездка представляла определенный интерес с точки зрения пропагандной — еще раз напомнить «Новой Европе» о нашем существовании. Немецкая печать с некоторого времени, вернее, со дня опубликования Манифеста, не проронила о Движении ни слова. В иностранной печати, особенно на юге, Власов был по-прежнему злобой дня. С другой стороны, мне хотелось поехать и для ориентации — посмотреть, чем эта «Новая Европа» сейчас живет, на что надеется и куда стремится. Судя по программе, съезд будет проведен с большой помпой. В немецкой печати ему уделяется исключительное внимание. Вечером того же дня я был у Власова по делу. Окончив деловой разговор, спросил его, что он думает об этом приглашении.
— Конечно, поезжай. Людей посмотри, себя покажи, послушай, что о нас говорят,
и им скажи что-нибудь.
— Что вы считаете, Андрей Андреевич, самым необходимым, что нужно было бы им сказать?
— Скажи им, чтоб нам помогали, а то пропадут они со своей Европой. Вот что скажи.
Уезжать нужно было на следующий день. Мой цензор оказался приставленным ко мне в качестве сопровождающего. Свои функции он определил, когда мы уже сидели в вагоне, как-то неопределенно «быть переводчиком, проводником, ну, и вообще помогать». Что за этим «вообще» крылось, я так и не понял до конца поездки, впрочем, вел он себя очень хорошо, предупредительно, и оказался человеком довольно приятным. В цензоры наши он попал не по призванию, а потому, что знал лучше других русский язык, хотя и Сделал в нем немалые ошибки. Настроений он, примерно, наших. Очень сочувственно относился вообще к русскому делу и только из-за своего служебного положения при моих горьких жалобах на немецкую глупость выражал свое согласие лишь неопределенными междометиями. Оказалось, что над ним сидит начальник его отделения, персона, по масштабам Восточного министерства, очень крупная, и что наши статьи просматривает прежде всего он. Часто цензор получает от него материал с припиской, что все уже проверено и что ему, цензору, остается только парафировать. «Он большой антисемит на все русское», — закончил характеристику своего шефа мой спутник.
Через несколько часов разговора он рассказал мне небольшую предысторию моего приглашения. Оказывается, инициатива пригласить нас первый раз на съезд иностранной печати — они происходили каждый год — исходила от немецкого Министерства иностранных дел. Восточное министерство, все еще рассматривающее нас не то как военнопленных, не то как покоренных врагов, категорически протестовало. Какие-то бонзы и в одном министерстве, и в другом спорили и ругались несколько дней. В конце концов нашли компромиссное решение — пригласить как иностранцев-союзников, но без права голоса.
— Если б я знал об этом раньше, наверное, не поехал бы Что за удовольствие быть нежеланным гостем, — говорю я.
— Ах, не обращайте внимания. Если будет интересно, останемся, если не понравится, можем уехать в любой момент.
Самому ему ехать почему-то хотелось очень. Так и условились. Я рассчитал, что могу навестить друзей в самой Вене и в ее окрестностях, повидаю знакомых сербов, которые, как я слышал, в большом числе бежали из Югославии, занятой тогда уже наполовину Красной Армией и Тито, и осели тоже в районе Вены.
Съезд оказался организованным так хорошо, как это можно было тогда сделать. Прекрасные комнаты в отелях «Захер» и «Империал», автобусы для поездок на заседания и обратно (они происходили в Шёнбруне) и небольшая увеселительная программа.
Первые два дня заседания происходили по два раза в день, до обеда и после. Вечером второго дня в том же Шёнбруне маленькая вечеринка с большим количеством алкоголя, для взаимного знакомства гостей.
Третий и последний конгресс «Союза национальных объединений журналистов Европы» назывался так только по традиции: на нем в гораздо большей степени представлены политики, чем журналисты, и, главным образом, из стран Восточной Европы, уже занятых коммунизмом.
Среди присутствующих чуть не в полном составе бывшее правительство Болгарии с Цанковым во главе, министр пропаганды Венгрии — Райнич, бывший президент Эстонии — Мэй.
С запада — новый министр пропаганды правительства Виши Марсель Деа, вождь бельгийских рексистов Леон Дегрель, офицеры испанской «Голубой дивизии» и десятки других, всего около 200 человек.
В первый день работы конгресса один из выступавших с трибуны, фламандец Ванде Вилле, пророчески предсказал судьбу собравшихся: «Все здесь присутствующие знают, что если Германия проиграет войну, — они все будут повешены…». Пророчества сбылось по меньшей мере на три четверти: большинство участников конгресса постигла эта участь.
Доклады делегатов, в общей сложности около 25, и вялые, и темпераментные, содержательные и пустые, очень разные по форме, по содержанию распадались на две части. Одни из них целиком исчерпывались тезисами:
— Европа в опасности. Христианской культуре грозит гибель от варварства, идущего с востока. Нужно мобилизовать все силы, взяться за оружие и идти спасать колыбель христианской культуры от грозящего ей разрушения…
Другие могли быть блестящей иллюстрацией трагедии, в которую Гитлер втянул европейский антикоммунизм. Трагедии в полном значении этого слова: в разных вариантах и с разной степенью откровенности неоднократно задавался один и тот же вопрос — за что же, собственно, мы боремся? Не нужно забывать, что вопрос этот задавался за четыре месяца до конца войны.
«Немцы рассматривают проблему войны только с их точки зрения, но никогда сточки зрения других народов. Мы еще и до сегодня не знаем, что с нами собираются сделать. Что собираются сделать с русскими — это мы знаем», — сказал один из молодых сербских дипломатов.
«Поверьте мне, что немцам не удалось убедить наши народы в необходимости признания немецкого водительства. Вы имеете сильнейшую и лучшую армию — это-ясно, но что будет, когда кончится война? Вы можете решить войну силой оружия, но духовно вы отстали от нас», — еще более определенно выразил ту же мысль норвежец.
Одну из самых трагических фигур среди присутствующих представлял собой бывший президент свободной Эстонии Мэй. «С первых дней войны я сделал немецкому министерству иностранных дел один доклад за другим, об единственно возможной политике Германии по отношению к народам Восточной Европы, — сказал он. — Первым пунктом этих докладов, так и не привлекшим внимания, было: прокламация и осуществление национальной свободы и независимости с того момента, как первый немец вступит на нашу землю. Сделано было как раз обратное. Немцы продемонстрировали незнание психологии других народов на нас. Нам не дали возможности даже умереть для Германии, хотя дивизии эстонцев были готовы к борьбе. Из недоверия к нам не дали даже оружия».
Точнее всех передал настроение, царившее на конгрессе, Леон Дегрель. В то же время он явился олицетворением того парадокса, в который попала пошедшая за Гитлером часть Европы.
Дочерна загорелый, он только что приехал с фронта, в полной форме офицера частей СС, с высшим воинским отличием, рыцарским крестом с дубовыми листьями, на груди, он произнес речь, которую можно назвать лебединой песней довоенного европейского антикоммунизма: «Я сомневаюсь, что немцы окажутся в состоянии выиграть духовно мир. Поэтому все наши народы должны соединиться, чтобы обеспечить плоды победы, и, если это будет нужно, то против политики Германии… Поэтому мы требуем: скажите нам, наконец, за что мы боремся, за что мы должны продолжать бороться, а не только против чего. Европа должна иметь какую-то конкретную цель! Где же она?»