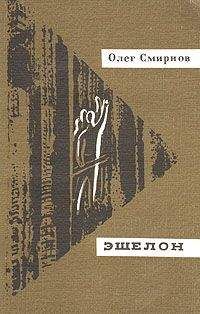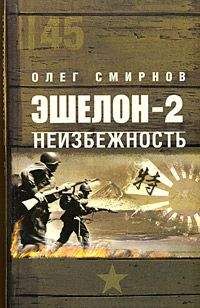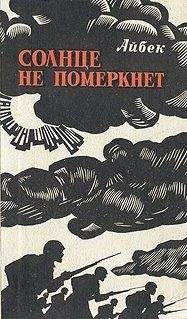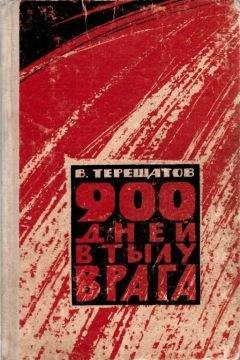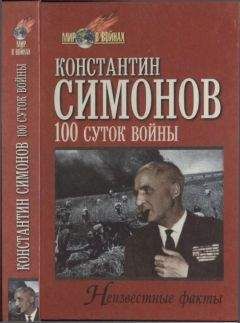Олег Смирнов - Прощание
— Перестань!
Пацан перестал кричать, но был белый, с трясущимися губами. Пленный растерянно оглядывался на Скворцова, как будто ища у него заступничества. Скворцов подошел к пацану, обнял за костлявые плечи, привлек к себе:
— Успокойся, Василек.
— Дядя Игорь, товарищ командир, — почти шепотом сказал Василь. — Они людей убивают. Мою мамку угнали, чтоб убить, и батьку убили…
— Видишь ли, хлопчик, этот немец добровольно поднял руки, сдался. И он нам нужен, разумеешь? Он доктор, разумеешь?
— Он немец, фашист!
Ну, как ему объяснить ситуацию, когда и для тебя она непростая? Мало у меня забот, так принесло этого боша. Хотя по правде: врач нужен позарез. До сей поры отряд был, считай, без медицины. Как, впрочем, и некоторые соседние отряды. Рассказывают, в отряде «Бесстрашный» одного партизана, с гангреной, так оперировали: напоили спиртом, спиртом же протерли ножовку и этой ножовкой — пронеси господи — отпилили руку по плечо. Скворцов своих раненых переправлял в отряд Волощака, где была санчасть. Иосиф-то Герасимович и попытался помочь Скворцову: послал как-то фельдшера, передаю, мол, в вечное пользование. Фельдшер не врач, однако на безрыбье и рак рыба. Как обрадовался Скворцов этому фельдшеру, как благодарил Волощака! Но то ли Иосиф Герасимович плохо изучил свой кадр, то ли не придал значения некоторым его качествам, только на поверку фельдшер оказался злостным запивохой. Возможно, у Волощака он держался, а попал на самостоятельную должность, — присосался к бутылкам, не просыхал от спирта. И еще, пожилой, плешивый, траченный молью козел, он приставал к женщинам в отряде. С восемнадцатилетней Лидой так знакомился: «Вася». А она ему: «Лидия Алексеевна». Отбрила.
Скворцов не без содействия Лободы прознал о художествах фельдшера. Первая мысль: набить мерзавцу морду, но он отвык уже от горячки-то, нынче он товарищ выдержанный. Вторая мысль: как жаль, что Кравун, предшественник этого запивохи, предпочитал орудовать автоматом, а не клистиром. Да, это так, дипломированный фельдшер Кравун чихать хотел на санчасть, он просил и требовал: пустите в строй, и при любой возможности лез в драку: швырял гранаты, стрелял, не пренебрегал и холодным оружием, если доходило до рукопашной. В принципе Скворцов таких одобряет, сам лезет в драку, но тут иное: воевать с автоматом может каждый, а вот лечить больных и раненых — лишь он, фельдшер. Уж как радовался Скворцов, когда к отряду прибился Кравун, бежавший из лагеря. Но Кравун сказал: «Товарищ командир отряда, после того, что перенес в плену, могу одно — мстить фашистским выродкам!» Погиб он в рукопашной: не доложившись никому из отрядного командования, увязался с ротой якобы для медобеспечения боевой операции, а на самом деле шел в передовой цепи атакующих партизан.
Воевать с автоматом может каждый? Нет! И причиной все-таки трусость, но до чего же она многолика — от животного страха за свою шкуру до восковой мягкости характера. Вот доктор филологии, которого Дурды Курбанов принял когда-то за доктора медицины. Лекции читает о Шекспире, о Некрасове — заслушаешься: муза мести и печали, муза мужества и гнева и так далее. Когда читает — огонь человек, страсть, сила! В остальное время суток — мямля, размазня, при выстреле бледнеет, при разрыве близок к обмороку. На кой пришел к партизанам? Емельянов возражал: «А ты хотел, чтобы он к немцам пошел, к полицаям?» Скворцов сердился: «Не превращай меня в идиота!» Емельянов мягко улыбался: «Отсидеться промеж воюющих сторон невозможно. Или по ту сторону баррикады, или по эту. Он у нас, разве это плохо?»
Скворцов знавал людей: до войны мухи не обидели бы, с началом войны раззадорились и храбро воевали. Макашин Алексей, пограничник, тому пример. Уж на что был добрый да мягкий, а двадцать второго июня на заставе держался молодцом. Или тот же Емельянов Константин Иванович. И сейчас он — мягкость, сердечность. Но в бою — храбрец! Увы, бывает и так: до войны не мог мухи обидеть и нынче не обидит. Доктор филологии, когда его Скворцов стыдил, буквально обливался слезами: «Не могу выстрелить в человека…» А Емельянов, а комиссар и тут как бы выгораживал филолога: нам, дескать, выгодно использовать его по специальности. Да не по сезону специальность эта — читать лекции о поэзии, до лекций ли, однако Емельянов настаивает, пусть по-вашему: изредка устраивайте лекции. Так сказать, в свободное от войны время.
Скворцов не набил фельдшеру-выпивохе, бездельнику и потаскуну, морду, просто отстранил вновь испеченного начальника санчасти от должности. Предварительно вел с ним душеспасительные беседы на тему: бросьте пить, займитесь делами, — по настоянию Емельянова, комиссар и лично беседовал с фельдшером, и вдвоем они беседовали, обдаваемые сивушным перегаром, исходившим от забубённого фельдшера как угарный газ. Тот обещал бросить, прекратить, завязать, однако спустя час после беседы напивался. И Скворцов приказал: посадить фельдшера со всеми его манатками на подводу и отправить обратно к Волощаку. Сказывают, вид у Иосифа Герасимовича был грозный, когда его кадр предстал перед ним. А при встрече сказал Скворцову:
— Добывай, батенька, медицину сам, у меня ничего нету…
Вот почему Скворцов не то чтобы обрадовался немцу-врачу, но какая-то надежда затеплилась. Обуза-то обуза, это верно. Фашистов в плен не брали — куда их девать? — да они и не сдавались, не рассчитывали на пощаду. Правильно: они нас к ногтю, и мы их к ногтю. Этот, врач, рассчитывал. Поднял руки. Каратель — и сдался? Именно так! Объяснил Скворцову: сдался потому, что против фашизма, против Гитлера, я не коммунист, не социал-демократ, просто честный человек. Ну, мы видали всяких честных, Лобода принялся его проверять, на сей раз подстегиваемый Скворцовым: проверь вдоль и поперек. Легко сказать: вдоль и поперек, а где данные возьмешь на этого арцта? Так он назвал себя, когда сдавался Роману Стецько, кидал руки в гору. Случилось это в том самом тяжелом бою у Гнилых топей. Стецько потом рассказывал: «Лапы поднял, без оружия, лопочет что-то навроде „их бин арцт“. Ну, я знаю: арцт — значит врач. Вовремя смекнул: пускай командование разберется, в распыл пустить никогда не поздно…» Стецько вел пленного с собой, покуда не вышли горловиной из Гнилых топей и не втянулись в урочище. Попереживал тогда Скворцов: что, ежели каратели закроют эту горловину, закупорят отряд в болотах? Пронесло. Пронесет ли вдругорядь?
Вот и арцт на допросе показал: получен приказ из Львова (или из Берлина, он в точности не знает) — покончить с партизанами, сюда брошены крупные силы карателей с артиллерией, танкетками и даже самолетами. Как «язык» арцт был не очень ценен — что врачу известно? — и потому после допроса начальник штаба предложил его ликвидировать. С ним согласился и Лобода. Емельянов был против: отряду нужен врач, к тому ж немец сдался и хочет быть полезен партизанам. «Все они хочут, всех ставь на довольствие», — сказал Федорук не без язвительности, а Новожилов улыбнулся краешками губ. Скворцов колебался, но доводы комиссара представлялись резонными. Доктор-то сдался. Побудительные причины — якобы не согласен с гитлеровской идеологией, ему стыдно за то, что творят немцы. Когда на сцену выступает такая категория, как совесть, можно рискнуть и поверить. Хоть он и в форме эсэсовца. Уверяет: в СС попал случайно и недавно. Как случайно? Так: в бою партизаны прорвались в тылы, врачи из санроты отстреливались, погибли, и его временно прикомандировали, перевели из пехотной дивизии. Он не эсэсовец, у него на теле нет татуировки, показывающей группу крови, как это принято в эсэсовских частях. А ну разденься. Яволь. Нету, точно, надевай рубаху и портки. Господа, врач — это не тот эсэсовец, что расстреливает безоружных, живьем сжигает людей в хатах. А если врет, притворяется? Если может выдать наше расположение, как говорит Новожилов? Если будет неправильно, вредительски лечить наших раненых, как говорит Лобода? Ну, а бдительность на что, контроль на что, товарищ Лобода? Павло насупился: «Наберете подозрительных, а отвечать мне». — «Отвечать всем», — сказал Скворцов. «Вам и мне! Вы ж в курсе последних случАев?» — «СлУчаев, — поправил Скворцов. — Да, я в курсе». Еще бы не в курсе: в отряде имени Ворошилова разоблачили агента абвера, бывшего директора школы, в отряде «Смерть оккупантам» расстреляли двух агентов, засланных под видом беженцев из Сувалок, из лагеря для военнопленных. Все так, бдительность нужна, Лобода прав, — и все ж таки с врачом стоит рискнуть. Под его и Лободы персональную ответственность. Пусть Павло приставит к перебежчику кого из своих людей, чтоб глаз не спускали.
Комиссар и командир подали пример: Емельянов с продырявленной только что, в Гнилых топях, мякотью предплечья и Скворцов с малярией — это уж вовсе было от лукавого, малярия сейчас не беспокоила, но для профилактики. И Емельянов не морщился, когда немец на перевязках ковырялся в ране, и Скворцов, не морщась, глотал чудовищно дрянного вкуса порошки, хуже акрихина. А звать немца так и стали — Арцт, хотя имя у него было Понтер Шредер, у немца, кое-как калякавшего по-русски и по польски. Арцт трудно произносимо, язык сломаешь, а вот произносили, не коверкали. Пальцы у него были худые, длинные, очки в золотой оправе, когда он занимался с раненым или хворым, то становился важен и энергичен, пальцы его так и мелькали, а очки поблескивали. Только бы не удрал. Без медицины плохо… После выхода из окружения отряд зализывал раны. Тяжелораненых эвакуировали к Волощаку, там санчасть хоть куда, хирург из областной больницы; легкораненых поручили Арцту, и тут же возник конфликт: Арцт хотел одному ампутировать палец, Лободе сообщили, и он не позволил, приказал лечить. Дошло до Емельянова, до Скворцова. Как поступить? Арцт — специалист, понимает, но вчерашний враг, что у него за душой? Лобода, конечно, не петрит, зато отвечает за Арцта. Порешили: направить того, с загноившимся пальцем, к Волощаку, к областному хирургу. Там без промедления палец оттяпали.