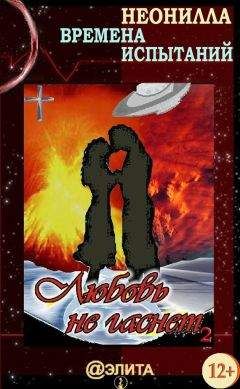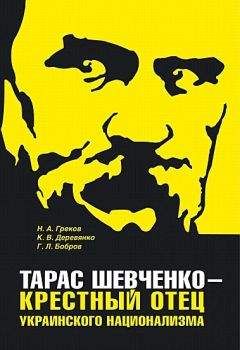Тарас Степанчук - Наташа и Марсель
Демин пожал плечами:
— Да где ж его возьмешь, этот самый загс? Погоним фрица, вернутся наши, будет и загс, а насчет ксёндза — комсомолка ты у нас, Елена, так что ксёндз отпадает.
— Кто у нас главная власть в отряде? Командир! Наш отец и мать, судья и повелитель. Значит, вы, товарищ командир, будете для нас еще и загсом, — Елена с доброй усмешкой глянула на Яна, — и этим… ксёндзом. Выдайте нам бумагу с печатью, что так, мол, и так, согласно взаимной любви и советским нашим законам являемся мы с сегодняшнего дня мужем и женой.
— Печати у меня нет… — Демин уважительно посмотрел на жениха и невесту: — Это кто же из вас о такой женитьбе первым сообразил? А я вот решиться не мог, спасибо вам, добрые люди — надоумили. Давайте заберем и мою Валентину, двумя парами жениться — оно как-то сподручнее.
Позвали Валентину, и Елена отдала ей половину своего букета. В штабной землянке командир бригады чистил оружие.
— По какому делу пожаловали? — удивился Тарунов.
— Пришли вот… Согласно законам… Оформить. — Демин запнулся и умолк.
Тарунов перестал протирать пистолет, вскинул брови:
— Ну чего мнешься, как бедный жених перед выпившим попом?
— Мы комсомольцы, — обиделась Валентина. — Поп для нас не подходит.
К Демину вернулась уверенность, и он заключил:
— А загса поблизости нету, поэтому благословите наш брак вы, товарищ комбриг.
Минуту Тарунов растерянно молчал, затем рубанул ладонью воздух:
— Благословляю! С нынешнего дня, Иван и Валентина Демины, Ян и Елена Долговские, согласно нашим советским законам объявляю вас мужем и женой. Живите, дорогие, счастливо, в миру и согласии! А главное — долго живите!
…Отгрохотав по мосту через величавую широкую Вислу, пятнадцатый скорый приближался к вокзалу Варшава Всходня. Отчеканивая слова, будто шли в солдатской колонне, красные следопыты пели польскую строевую-лирическую: «Чье-то сердце загрустило. Знать, оно любить хотело. Налилось оно тоскою. Вслед за войском полетело…»
Состав плавно замедлил ход и остановился. Дети высыпали на платформу, построились в шеренгу и замерли напротив группы ветеранов.
Возникла пауза. Мальчуган, который должен был отдать рапорт, разволновался и позабыл выученный текст.
«Мы, пионеры орденоносной Рязанщины…» — шепотом подсказывала учительница.
Мальчуган растерянно молчал. И тогда из группы ветеранов шагнул седой полковник, ласково улыбнулся и, смешав русские и польские слова, сказал, протягивая руки:
— Идзь до мене, сыночек!
Сине-бело-красная стайка пионеров слилась с ветеранами. Обняв ребенка, полковник поднял его над головой.
К Александре Михайловне шагнул высокий стройный мужчина с букетом роз.
— Пани Наташа?
Даже в свои годы он все еще был красив. Так старый орел до последних своих дней остается гордым и прекрасным орлом.
Совсем неожиданно для себя Александра Михайловна обратилась к встречавшему тоже по имени и на «ты»:
— Здравствуй, Ян.
Они обнялись.
«Поки мы жиеми…» Через месяц почетный ветеран второй мировой войны, бывший командир интернационального отделения отряда имени Кутузова, Ян Долговский с отданием воинских почестей был похоронен в Варшаве.
Земля родная помнит нас: и всех, и каждого отдельно…
* * *Одер переезжали в девять вечера по среднеевропейскому времени. Пятнадцатый скорый прокатился по высокой насыпи над Франкфуртом, и вскоре появились в вагоне пограничники ГДР — в высоких фуражках и безукоризненно пошитых мундирах. Говор у них был берлинский.
«Как у фрау Анны», — отметила про себя Александра Михайловна.
От Франкфурта-на-Одере, перед Берлином, пошли пригородные дачные места с аккуратными кирпичными коттеджами и обилием зеленых насаждений, чуть тронутых золотом бабьего лета. А южнее, километров на пятьдесят, где начинается Шпрее — она это помнит, — были красивые ухоженные клумбы: господин лагерфюрер обожал цветы.
Что сейчас на месте концлагеря и там, где зловеще высилась механическая виселица? В полосатой шеренге хефтлингов {34} она стояла перед тем сооружением и молча смотрела, как задыхается в петле очередной товарищ по беде, спрашивая себя, когда же в этой петле окажется и она?
Тот концлагерь находился в округе Котбус, на окраине городка Зальгерст. И слово «Котбус» было выбрано для кодового наименования самой кровавой карательной операции сорок третьего года, которая проводилась в Борисовско-Бегомльской партизанской зоне и в ее, Александры Михайловны, Смолевичском районе.
…Из Смолевичей арестованную Наталью Борисенко вместе с несколькими другими узниками доставили в Минское СД, которое размещалось в мрачном двухэтажном особняке.
По обе стороны коридора, лицом к стене, стояли с поднятыми руками арестованные, а между ними шагал здоровенный эсэсовец, стегая плетью каждого, кто пытался опустить руки. Другой эсэсовец из комнаты выкрикивал фамилии. Вызванный бежал к нему и вскоре возвращался.
Услышав свою фамилию, Наташа отправилась к раскрытой двери.
— Твои вещи? — спросил эсэсовец, протягивая сумочку.
— Мои…
— Забирай и марш на место!
Закончив раздачу вещей, арестованных колонной повели в тюрьму. Наташа раскрыла сумочку и задохнулась от радости, увидев знакомые записки. Незаметно вытащила обязательство Дервана, сунула в рот, разжевала и проглотила. Обязательство Корецкого, написанное на толстой оберточной бумаге, пришлось глотать по частям.
В тюрьме арестованных обыскали. Очутившись в камере, Наташа почувствовала облегчение: обязательства уничтожены, доверившиеся ей люди спасены! И тут ее обожгла тревожная мысль: «А как же Марсель? Наивный и добрый рыцарь»…
И опять начались допросы.
Ее истязал белесый плотный следователь лет тридцати с одутловатым лицом и бегающими глазами. Начиная допрос, он улыбался. Будто выполняя какой-то ритуал, медленно заводил патефон, и в тюремном кабинете звучало сентиментальное танго: «Ин айнен кляйнен штадтхен» — «В одном маленьком городке».
Садист, не торопясь, перебирал набор плетей и вкрадчиво спрашивал:
— Какой будем работать сегодня? Выбирай…
Или зажимал ее запястья в тиски, закуривал, вежливо интересовался:
— На какой руке будем сегодня делать «маникюр»?
Мучительными оказались также и дни между допросами — режим в Минской тюрьме СД был адский. Надзиратели как будто соревновались между собой, изощренно издеваясь над заключенными. Какие только муки не способен вынести человек…
По вторникам и пятницам прибывала душегубка. Наташа в те дни ожидала вызова, как избавления. Но увозили других, а ее вели на очередной допрос.
Три месяца безуспешно выбивал из Наташи показания следователь Минской тюрьмы СД. На последнем допросе он заговорил «по душам»:
— Умирать в твои годы нехорошо. Главная ценность у человека — жизнь. Будешь говорить правду, помилуем. Ну!
— Самое главное у человека Родина — высшая из Матерей…
Ударив кулаком по столу, гестаповец истерично закричал:
— Ты хочешь погибнуть здесь, на родине, как героиня? Мы лишим тебя этой возможности, фанатичка! Сгниешь далеко отсюда, в германском лагере! Живой из концлагеря не выйдешь — я поставлю в твоих документах специальную отметку!
Когда Наташу вызвали с вещами, соседка по нарам Клумова, жена известного в Минске профессора, сказала на прощание:
— А вдруг останешься живой, тогда поешь досыта и за нас родимого нашего хлеба…
В студеный предновогодний день Наташу привезли на станцию и втолкнули в переполненный невольниками неотапливаемый товарный вагон. Паровозный гудок перед отправкой эшелона и поныне слышится ей в кошмарных снах — тот погребальный гудок перед расставанием с Родиной.
Одета была Наташа в сапоги на босу ногу, платье на голое тело и летнее пальто. Ее выхаживали, спасли незнакомые люди: она запомнила лишь некоторые голоса и лица тех, кто дал кусок хлеба, накрыл кожухом, отогревал в промороженном вагоне теплом своего тела, своей души.
Эшелон прибыл в концлагерь Зальгерст, юго-восточнее Берлина.
Даже за проволокой концлагеря, оказывается, узнику могла улыбнуться удача: именно в день прибытия эшелона из Минска на пищеблок понадобилась посудомойка, знающая немецкий язык. Рослая полнотелая немка лет сорока, неразговорчивая лагерповар фрау Анна взяла в свои руки судьбу Наташи. Внимательно оглядев ее на кухне, спросила:
— Имя, профессия, вероисповедание?
— Наташа. Учительница. Неверующая.
— Безбожница, — подытожила фрау Анна. — Всевышнего не почитаешь, геенны огненной в аду не боишься…
— Какой ад может сравниться с гестаповской тюрьмой? С нашим и другими концлагерями? За что ваши солдаты сжигают в моей стране деревни вместе с мирными жителями? Если бы существовал всевышний, разве бы он такое допустил?