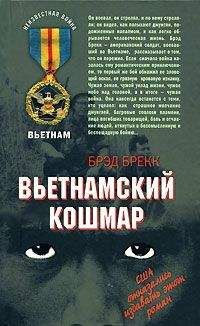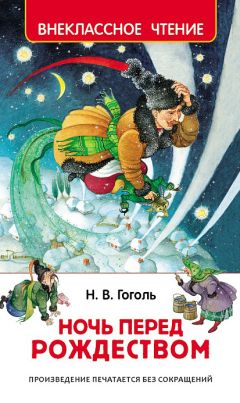Брэд Брекк - Кошмар: моментальные снимки
— Да вот тут это чучело пытается растрясти меня ещё на 200 пиастров. Надо бы подпалить ей буркалы сигаретой, бля!
— Да ладно тебе, Брэд…так у них всегда. Дай ей денег, а завтра я куплю нам выпить в «Сумасшедшем клубе».
Нехотя я дал Ко Май денег.
— Ты плохой, — остывала она, улыбаясь, — приходить Ко Май много раз. Я не бросать тебя.
— Долбаные азиаты, — пробурчал я под нос. — Иди-ка сюда, дружок, мне ещё захотелось кой-чего на эти 200 пиастров.
Повалив её на спину, локтями я раздвинул ей ноги и начал пожирать влагалище, языком торя путь мимо маленьких чёрных зарослей к нежной розовой плоти.
Ко Май закричала. Я отпустил её, и она, спрыгнув с кровати, помчалась сквозь засаленные занавески в соседнюю комнатушку. На шум вышел Билли, на ходу застёгивая брюки, и поинтересовался, какого чёрта я вытворяю с девкой.
Голышом я погнался за Ко Май, и мой торчащий член болтался вверх и вниз; я снова завалил её на койку и вошёл в неё.
— Она сладенькая, как конфетки на Рождество, Билли! Гы-ы-ы…
Билли хватался за стену и ржал, наблюдая сцену. Я поднял Ко Май за ягодицы — она обхватила мою талию ногами — и притулил к стене, удерживая на своём «штыке».
— Догадайся кто, дорогая! Я опять твёрдый, как кирпич! Спешите видеть, уважаемые посетители…
Вокруг меня по-вьетнамски верещали мамасан и члены семьи, я только огрызался и продолжал вгонять Ко Май в стену, пока не выстрелил вторую порцию спермы. Потом бросил её на пол, как куль с картошкой, быстро собрался, и мы с Билли ушли.
Мы выскочили за дверь и побежали по переулку, задыхаясь и смеясь, как два неуравновешенных школьника, которые в ночь на Хеллоуин перевернули уборную с шерифом на толчке.
Вьетнамские тёлки — не самые знаменитые проститутки на свете, ну и, конечно, мы тоже не самые знатные любовники. В конце концов, мы простые воины, а воины не занимаются любовью. Они трахают. И иногда бывают грубы, когда трахают. И если мы использовали свои пенисы как штыки, то тётки с «улицы 100 пиастров» использовали свои вагины как ловушки, заражавшие нас устойчивыми штаммами гонореи.
То была жестокая, разрушительная игра в притворство. Там позади, пять минут назад, какая-то блядь знала, что я существую. Я проникал в неё и думал, что ей не всё равно. Фантазия в чистом виде. Я понимал это, но меня это не волновало. Я хотел секса с самкой и жаждал платить за него. На что ещё здесь можно было тратить деньги?
Но именно это мне нравилось в девках. Это был честный бизнес. Без всяких иллюзий. Никаких притворных страстей. Никакой болтовни о любви. Только секс…
Бесхитростный, иногда жестокий, но только секс. Спортивный перепихон. Если ты обладал хоть каплей воображения, то мог трахаться любым желаемым способом. В сиську. В жопу. Пальцами. По-собачьи. Языком. В глаз. С причмокиванием. В пупок. В подмышку. В ухо. И тысячами прочих вариантов.
Так казалось честнее, чем бродить из бара в бар на родине и каким-нибудь удачным вечером вешать лапшу на уши прыщавой девчушке с засосами на шее о том, какая она яркая и красивая и как сильно ты её любишь, хоть ты её знать не знаешь и даже имя её тебе неизвестно.
С девками иначе.
Ты давишь их и выжимаешь. Ни тебе подарков, ни игр, ни болтовни — всякой такой чепухи. Здорово и просто. Как деловая сделка. Вкатываешься, накатываешься, скатываешься и выкатываешься. Примерно так. Чудная механика. Они получали, что хотели. Мы получали, за что платили.
Что могло быть лучше?
Один быстренький, летучий трах: 300 пиастров за мандушку, которая меньше, чем дырка от благотворительного пончика. Девки лежали смирные, как манекены, и ложиться с ними в койку — всё равно что лечь с замороженной треской. Ни движений. Ни страсти. Ни тебе поболтать. Ни тебе покричать. Одна лишь щель, как парковочный автомат у магазина, да три минуты за кусок задницы — «трах-бах-кончил-ах!». Сунул-вынул — и привет…
Беда только в том, что секс с проститутками-подростками и взросление в публичных домах Вьетнама, когда ты сам ещё подросток, впоследствии коверкают тебе всю интимную жизнь.
Американкам подавай ухаживания и нежности, мы же не знали, что ещё можно предложить женщине, кроме своего пениса, твёрдого, как леденец.
Мы недалеко ушли от животных. Не знали, как любить и заниматься любовью. Всему этому нам предстояло учиться. Но чтобы этому научиться, следовало забыть, как мы занимались любовью раньше. И если рядом не было любящей, терпеливой, готовой прийти на помощь женщины, то возникали проблемы — уж проблемы так проблемы, поверь.
У многих из нас возникали проблемы.
У нас, у чокнутых до предела возможного, особенно если приходилось пристреливать девку после секса с ней. Или беременную. Или ребёнка.
Мы возвращались домой с тяжким грузом на душе. И неоткуда было ждать помощи. Мы сами несли свой крест…
Было темно, и я был пьян. В конце улицы я налетел на скамейку и зашиб ногу, оставив на деревянном сиденье часть своей плоти. Но боли не почувствовал: я поднялся и побежал дальше.
Через несколько минут мой взгляд упал на брюки. Они были в крови.
— Билли! — воскликнул я, — посмотри на меня…я ранен…мокрый от крови, словно обоссался.
— Не повезло тебе! — засмеялся Билли. — За ранение в публичном доме «Пурпурным сердцем» не награждают.
Глава 24
«Жёлтый, как луна над Ямайкой»
«Нельзя победить в войне, равно как нельзя справиться с землетрясением».
— Жанетт Рэнкин, американская суфражистка и политический деятель, «Первая леди Конгресса»Однажды вечером Билли, наш писарь Дэнни Цейс и я отправились в увольнение в Сайгон, а вернулись уже после объявления комендантского часа, так что военная полиция тотчас же доложила об этом командиру. Майор Либерти не стал наказывать нас по 15-ой статье. Он знал, что мы с Билли не учимся на своих ошибках. Кроме того, мы и так уже были разжалованы до самых что ни есть рядовых. Потому на другой день он доложил о нашем поведении майору Джорджу Ганну, 41-летнему мормону из Огдена, штат Юта, одному из пяти наших офицеров по связям с прессой.
Тощего майор Ганна, служаку до кончиков ногтей, мы за глаза нежно называли «майор Бум-Бум» за его ВУС[5] артиллериста. Шести футов и шести дюймов росту, он смахивал на бывшую баскетбольную звезду. Я представил, как он серет коричнево-оливковыми какашками, а при ранении истекает кровью цвета хаки, делая маленькие аккуратные лужицы. Старый солдат, майор действовал строго по уставу, поэтому неудивительно, что за нашу глупость нам грозило наказание.
О, сколько ж ему ещё предстояло познать. И мы с Билли будем его наставниками…
В тот вечер он приказал мастер-сержанту Уолдо Харкинсу, старшему специалисту по связям с прессой, покрасить стены в его кабинете в жёлтый цвет.
Толстый и лысый коротышка Харкинс часто рассказывал о своём доме в Бингхэмптоне, штат Нью-Йорк, о замечательных пирогах с изюмом и тыквенным мороженым, которые готовила его жена Хэтти. Со здоровым чувством юмора и толстыми чёрными роговыми очками сегодня он был похож поросёнка Порки, а завтра — Элмера Фадда.
30-летний Харкинс, как и сержант Темпл, слыл закоренелым службистом и мечтал после отставки занять кресло завотдела городских новостей в «Нью-Йорк Таймс» — пописывать и редактировать написанное. Толковал, как он будет медленно, но верно карабкаться по служебной лестнице, и как только освободится уютное местечко, там и осесть, чтобы в праздности валандаться до пенсии, решая, оставлять ли запятую или вычеркнуть.
Я же видел его толстым редактором, но не в «Таймс», а в «Бингхэмптон Блэйд», который ругается с бестолковыми завотделами и делает выволочку молодым журналистам, что подшивают свои статейки в особую папку, чтобы со временем переметнуться в «Дейли Пипсквик» — листок чуть посолидней за пределами Нью-Йорка.
Я видел, как он превращается в зеленовласого тролля из отдела новостей, с дурным дыханием и жёлтыми от никотина, стёртыми до дёсен зубами, с проблемами по части выпивки, как у всех прочих, кто занимается эти делом; видел, как он стареет и становится никому не нужен, и ему мягко дают под зад корпоративной метлой и отправляют проводить остаток дней своих в «поместье престарелых кресел-качалок».
Мы начали красить где-то в восемь. Нам показалось, что работа пойдёт веселее, если запастись парой ящиков пива, но уж очень скоро мы наклюкались.
Мы ляпали краской на пол, а Харкинс сидел в кожаном кресле майора Бум-Бума, сосал банку за банкой, отрыгивал, пялился на нас и покрикивал, чтобы мы быстрей шевелились, потому что хотел вернуться в общагу до чарующего полуночного часа.
А мы еле двигались. Глоток пива — взмах кисти. Глоток — взмах. Вскоре мы вообще забыли, чтo майор приказал красить. Но энтузиазм пёр из всех щелей, если можно так сказать, на этом и выезжали. Билли решил, что будет лучше, если выкрасить жёлтым потолок. Нам с Цейсом мысль понравилась. Тогда Билли забрался на широкий деревянный письменный стол и начал шлёпать кистью по штукатурке над головой.