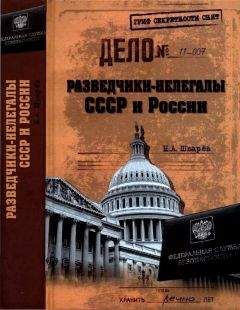Даниил Гранин - Это мы, Господи. Повести и рассказы писателей-фронтовиков
Все время боком, рискуя перевернуться, повозка катится по снегу. К нам бегут люди. Кто-то еще заваливается в кузов, несколько раненых цепляются за борта. Пожилой боец в разорванной шинели, устало труся рядом, глухо и молча плачет без слез. Его щетинистый подбородок судорожно дергается сверху вниз. Старшина не переставая лупит коня. Мы минуем группу, несколько одиночек и еще, видно, человек десять. И тогда Сахно решительно соскакивает на снег.
— А ну, стой! Стой! — кричит он на бойцов и выхватывает из кобуры пистолет. — Назад! Пристрелю всех как изменников! Назад!
Бросив вожжи Кате, соскакивает с подводы и старшина. Он также начинает кричать «Стой!» и кого-то догоняет. В шею толкает его к капитану. Сахно направляется в другую сторону. Вдали по склону пригорка бегут несколько человек, и он, не целясь, стреляет туда из пистолета. Беглецы сначала останавливаются, потом, разбредясь, идут вниз. Около старшины набирается десятка полтора случайных людей.
— На бугор! Марш на бугор! — кричит Сахно и выбрасывает в поле руку.
От группы отделяется старшина:
— Братва, а ну бегом! У кого гранаты — ко мне! Покажем им кузькину мать!
Усталые, они не очень решительно бегут назад на пригорок. Сахно еще кого-то останавливает и гонит за всеми. Кого-то бьет рукояткой по шее. Что ж, может, так и надо. Надеяться теперь не на кого, никто тут нас не защитит. Разве что сами себя.
В какой-то неопределенной решимости я также соскакиваю с повозки. Соскакиваю и приседаю на одну ногу (поспешил все же!). Ну, черт с ним! Погибать, так на поле боя. На мое место сразу кто-то влезает.
Я ковыляю в степь. Сзади, отдаляясь, стучит повозка, только я не оглядываюсь. Я знаю — нам уже больше не встретиться.
Уже немало пройдя по свежим следам, я бросаю короткий взгляд назад. Вблизи никого. Далеко внизу повозка въезжает в село. Но где же Сахно?
Капитана нигде не видно. Впереди его нет, а сзади… А сзади на повозке чернеет знакомая кубанка.
Между тем небольшая группа со старшиной во главе быстро разворачивается в цепь. Давясь обидой, я достаю из-за спины карабин и выхожу на пригорок.
Глава девятнадцатая
Однако довольно.
Нам приносят ужин и обед — на сегодня все сразу. Немолодая полнолицая официантка в наколке ставит две тарелки с бифштексом и по селедке с луком. Наблюдая за быстрыми движениями ее ловких рук, я думаю, что так можно сойти с ума. Вспоминать все это не намного легче, чем когда-то было переживать. Все муки повторяются почти с прежней силой. Впрочем, оно и понятно: слишком много душевных и физических сил все это мне стоило.
Мой сосед оживляется. Откладывает газету и, довольный, придвигается к столу. Перво-наперво берет пузатый графинчик и наливает две рюмки.
— Ну что ж! Глотнем. Кстати, я не знаю, как вас величать, — говорит он, задерживая поднятую рюмку.
Я рассеянно беру свою.
— Василевич.
— Василевич? Белорусская фамилия. А я Горбатюк. Павел Иванович.
Исподлобья я вглядываюсь в его лицо. Нет, черт возьми, для Сахно он ведет себя чересчур уверенно. Пожалуй, там, в гостинице, мне померещилось все это, и я едва не наделал глупостей.
Он бросает на меня короткий, почти приятельский взгляд:
— Ну, будем здоровы!
И со сдержанным наслаждением выпивает. Хакнув, берется за вилку. Я сижу со своей рюмкой в руке. Чтоб выпить за здоровье, надо его иметь, иначе это пустой и формальный тост. У меня есть другой. Я буду пить не «за». Я выпью «против». Против того, что меня привело сюда. Чтобы больше оно мне не мерещилось.
Мы принимаемся за еду. Я перетерпел и без особой охоты выбираю с тарелки лук. Внимание мое переключается на соседей, что за спиной Горбатюка (если только он Горбатюк). За двумя сдвинутыми столами четверо парней и три девушки пьют шампанское.
Одна, что сидит напротив в конце стола, — маленькая, вся в черном, миловидная брюнетка, — кажется, само оживление. Там она центр внимания. Глаза ее так и горят восторгом. К ней обращены обожающие взгляды парней. Да и блондинок тоже.
— Вы воевали? — ни с того ни с сего прямо в лоб спрашиваю я Горбатюка.
Тот с достоинством выпрямляется на стуле:
— А как же. Всю войну. На Западном, а потом на Втором Белорусском.
— А на Втором Украинском не были?
— Украинском? Нет, не был. На Украине, к сожалению, не пришлось. Больше в Белоруссии. В Польше. Берлин брал. Вот где была баталия!
Он энергично и с аппетитом работает сильными квадратными челюстями. И снова то же спокойствие с нотками горделивости в тоне — брал Берлин! Нет, пожалуй, я круглый дурак. Идиот! Едва не устроил скандал. И все потому, что двадцать лет держу в памяти каждую мелочь из моего не столь уж богатого военного прошлого. Не лучше ли махнуть на все и забыть? Как это сделали многие другие.
Если бы только это было возможно!..
Горбатюк тем временем отодвигает пустую тарелку и снова поднимает графинчик.
— Ну так что? По второй? За Победу.
Припомнил! После своего дорогого здоровья он пьет за Победу. Ничего себе ветеран! На этот раз он протягивает руку, и мы чокаемся. Горбатюк сразу опрокидывает рюмку. Я нерешительно держу свою двумя пальцами. За соседним столом, лукаво улыбаясь глазами, пригубливает бокал чернушка. Ее компания за столом взрывается хохотом.
— Эрна, восхитительно!
— Два — ноль в пользу Эрны!
— Любушка, твою лапушку!
Плечистый блондин в серой, с карманами на груди рубашке склоняется над ее рукой. Горбатюк оглядывается и со значением кивает головой:
— Тунеядцы белорусские?
Я не отвечаю. Посуда на столе сверкает россыпью ресторанных огней. Рядом возле своего столика в простенке хлопочет официантка. В зале — приглушенный гул. Хорошо еще, что вокзальные рестораны обходятся пока без оркестра. Иначе раскололась бы голова.
Тем временем Горбатюк берется за нож и вилку.
— Вы офицер? — спрашиваю я.
— Гвардии майор запаса.
Отрезав кусок бифштекса, он посылает его в рот. Майор? Может быть. Конечно, после капитана следует майор. Если действительно не Сахно, то, видно, какой-нибудь командир батальона. А может, политработник? Или помпотех. Если, скажем, служил в танковых войсках. Если танкист — я ему признаюсь во всем и попрошу извинения. Перед танкистом я сниму шапку.
В графинчике колюче блестят, сходятся и разбегаются огоньки-искры. Потеют выпуклые стенки фужеров. Радужная подковка нежно лежит на белом полотне скатерти…
Глава двадцатая
Ну вон и танки. На суженных интервалах, выстроившись все в ряд, они ползут по широкой балке-лощине. Правда, ползут осторожно, видно, не стараясь давить бойцов гусеницами — они их уничтожают огнем. Глубинный, металлический гул, все усиливаясь, плывет над землей.
На фланг я уже не бегу. Пригнувшись, вхожу в цепь, где она несколько реже, и падаю в снег. Снег тут неглубокий и рыхлый, повсюду торчат серые стебли бурьяна. Справа от меня шевелится кто-то в полушубке. Возможно, какой-нибудь командир. Только он не командует. Теперь он, как и все, рядовой в цепи старшины Евсюкова. С другой стороны от меня торопливо устраивается на снегу длинноногий боец в короткой шинелке.
Над заснеженной морозной степью сквозь дымку просвечивает невысокое зимнее солнце.
— Огонь! Какого черта лежать! Огонь!
Это в цепи встает на коленях старшина. Его темная десантная куртка резко выделяется на свежем снегу.
Да, конечно, нужен огонь. Иначе чем мы можем сдержать эти танки? Вот только что мы им сделаем нашим огнем? Если бы хоть парочку ПТР. Да чтоб гранаты…
Из цепи редко и недружно начинают бахать винтовки. Кто-то пускает длинную очередь из автомата. Танки, наверно, пока нас не видят. Я лежу в каком-то оцепенении, вобрав руки в мокрые рукава шинели. Мерзнут пальцы. До самого колена горит, ноет нога. В карабине всего пять патронов, и я выпущу их, когда танки подойдут ближе. Чтобы попасть хоть в какой-нибудь триплекс.
Танки приближаются с каждой минутой. В балке тяжелый моторный гул, приглушенный лязг гусениц. Беглецов перед ними уже не видно — живые все за пригорком. На широком пологом склоне, истоптанном сотнею ног, несколько трупов, разбитая повозка, а чуть ближе — наш издохший конь. И вдруг кто-то там оживает и начинает ползти. Изнеможенно волочит по снегу, видно, перебитые ноги. Сразу же на лобовой броне переднего танка вспыхивает огненный сверк, и человек навсегда вытягивается на снегу.
— Огонь! Огонь, черт бы вас побрал!.. — кричит Евсюков.
Я кладу на ладонь карабин и прицеливаюсь. Приклад туго отдает в плечо, и мне жалко напрасно истраченного патрона. Скоро он мне ой как понадобится. Неторопливо начинаю целиться снова. И тут рядом рвется снаряд. Взгляд теряет цель, меня обдает тротиловым смрадом и снегом. На взрыв я не оглядываюсь — я только чувствую: ну вот и увидели! Теперь держись! Теперь дадут жару.