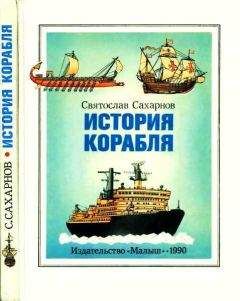Александр Литвинов - Германский вермахт в русских кандалах
— Дайте, я вам почищу, — плохо слушая, что говорит эта девушка, сморенный голодом, Уваров предложил. И первую картошину отправил в рот, забыв очистить.
— Ты из плена?
Уваров кивнул.
— Допросы прошел?
Опять кивнул, держа глазами хамсу на газете.
— Ты ешь, солдатик. Это все твое. Тюлька добрая… Правда, на бочке написано было, что будто бы это хамса. А можа камса?.. Да какая нам разница! Было бы в поле с чем выйти. Слава Богу, что бульба своя. Да есть огурцы, помидоры там, разная зелень… А тебе, видно, негде работать? И жить не дают?
Он молча кивал и ел с наслаждением. Хамсу, которую девушка тюлькой назвала, ел целиком, с головой и хвостом, и картошку не чистил. С насыщением крепло решение: идти в этот самый колхоз. Немедленно, прямо сейчас, вместе с девушкой этой, которой в глаза посмотреть не решался. А очень хотелось.
Она, будто мысли его прочитала, подождала, когда съедена будет картошка и тюлька, предложила негромко, к нему притулившись плечом:
— А пойдем к нам, солдатик, в колхоз. После тех лагерей, что прошел, наш колхоз тебе будет нестрашным. Пойдем… У нас люди хорошие. Добрые. Одни бабы почти, инвалиды да дети… Намучились и настрадались…
— А ты кем там, в колхозе? — отважился все-таки глянуть на девушку.
— Полеводом. А что? Может, и правда пойдешь?
— Деваться мне некуда…
— А ты не горюй. У нас уже двое таких. Сразу в примы пошли. Один тоже танкист обгорелый, как ты…
— Я летчиком был. Но это мне немцы… лампой паяльной. Немки чтоб не заглядывались и русские бабы боялись, — попробовал он отшутиться, но девушка приняла это всерьез:
— Твоя правда, солдатик. Но в глазах красотинка осталась. Хоть и трошки, а есть…
И, словно на что-то решившись, улыбнулась:
— Девкам нашим и этого хватит. С лица воду не пить, а рубцы — не грехи, на потомство не переходят.
— А что за радость спать с корявым? Обезьяна и та приличней…
Она не ответила. Своему улыбнувшись чему-то, сказала:
— В наше Вербное, если надумал, то надо итить, а то солнце аж вон уже где. Нам к мосту торопиться надо. Наши девки там будут, только ты не тушуйся… Может, нам повезет на удачу твою, дак на попутной доедем.
И мысли продолжила вслух:
— Нам бы искорку хоть. Уголек бы горящий, а огонь мы раздуем! Девки так истомились по жизни!.. По семье своей истосковались. Наши хлопчики канули в братских могилах да без вести пропали, кто где… А ты будешь жить, где понравится… Такой худенький больно… Но мы тебя бульбой откормим! — улыбнулась она с притаенною грустью в глазах, и Евгению стало уютно с красавицей этой.
— Ты возьми меня лучше к себе… Возьми как товарища. Я знаю, где место мое: женихаться не стану… А в колхозе могу трактористом, шофером, если мне разрешат на права… А не шофером, дак я на любом агрегате смогу!
— Добре, хороший мой, добре. Разберемся, где тебе быть… Вот прибудем домой — и в баню. Седни день у нас банный: девки должны были луг докосить… Ты париться любишь?
— Я боюсь раздеваться, — угрюмо заметил Уваров. — Мужики разбегутся, как глянут. Маленько меня не догрызли собаки после побега, и когда еще власовским летчиком быть отказался… Нас поймали тогда…
— Я сама тебя, миленький, вымою, — глядя в глаза ему, тихо сказала, осторожно касаясь рубцов на щеке. — Ты хочешь, чтоб я тебя вымыла?
Он даже кивнуть головой постеснялся. Но впервые за многие годы в глазах его засветилась счастливая радость…
Рассказы
Солнце в борозде
— Ну, с Богом, девки!
Старая Дуриманиха поплевала на заскорузлые ладони, костлявые пальцы ее обвили ручки плуга, сухой, нацеленный взгляд привычно ухватил край борозды:
— Помоги нам, Царица небесная! Пошли…
Пятеро баб впереди плуга натянули тяжи, столкнулись плечами, разошлись и, упираясь до боли в костях, пошли медленными, грузными шагами, прикованные тяжестью земли так, что и глаза уже ни на что не поднимались.
Тяжко бабам в лямке, а еще горше в ней, когда дети рядом. А они тут стоят вдоль борозды с корзинами. У кого картошка с сиреневыми глазками, у кого прошлогодняя листва из соседнего березняка.
И у каждого — глаза, с пронзительной болью на матерей своих глядящие.
— Что вы стоите, лупоглазые?! — строго выговаривает детям Дуриманиха. — Кладите бульбочку, как учила вас. Да листьев не жалейте. Да не стойте так! Душемоты! Прости меня, Господи, грешную…
Сама она идет за плугом широким мужским шагом. Опыленные песком, ее босые ноги уверенно оставляют цепочку следов на влажном дне борозды. Научилась Дуриманиха ходить по земле за свои пятьдесят с лишком, покрестьянствовала. Разве что на бабах не пахала, так вот тебе и это.
А над головой — звенящий жаворонками весенний день в разгаре. От развороченных, полузасыпанных окопов с искореженным военным хламом, от перепаханной войной опушки березняка тянется до самого проселка узкая лента свежевспаханной земли. Рядом с сосняком еще одна, за речкой другая.
И бабы в упряжках. И дети рядом.
«Кадась мужики на конях пахали, — размышляет про себя Дуриманиха, — дак ти посвистывали, ти кнутом погоняли скотину, а тут бабы. Забавлять надо. Песню спеть?.. Одной не поется. Песню петь, что работу делать, гуртом надо. Слов каких-ся пошукать?..»
— Не горюйте, девки! — бодро, нараспев затянула Дуриманиха. — Лето не за горами! Уже и зелень всякая пробивается: крапивка, лебеда, сныточка, а там и щавелек подойдет. Сеголета уже не помрем, слава тебе, Господи. Как не считайте, а главное — дожить до бульбы. Вот ее в земельку посадить надо первей всего, спасительницу нашу. Казенную, правда…
Дуриманиха примолкла. Вспомнилось ей, как дождливой апрельской ночью, пробиваясь по разбитым войсками дорогам, пришла в Красуху военная машина и человек в дождевике приказал солдатам, вылезшим из-под брезента, выгрузить семь мешков картошки.
— Это ваш семенной фонд, товарищи, объяснил он собравшимся бабам и детворе. — Все. что насобирали…
— Что ж только семь мешочков, сыночек ты мой? — спросила Дуриманиха того человека. — Дети ж у нас, ай не бачишь?
— Прости, мать, но только семь. Знаю все, но больше не могу… Другим не хватит.
И, провожая глазами седьмой мешок, жмурясь от лившего с неба нудного, не по-весеннему холодного дождя, как заветную мечту, обронил людям надежду:
— Может, разживусь где, подброшу еще… Картошки и зерна. Только б, товарищи, земля не пустовала.
Пошел было к машине, да вернулся и будто хотел еще сказать что-то напоследок да передумал и в тягостном молчании остановился, уставившись на черные лужи под ногами.
У каждого свое горе, сынок, — глядя на человека, тихо сказала Дуриманиха, — а у тебя, видно, все наше горе сошлось и все заботы. Вон какая гора…
И от чистого сердца посоветовала:
— Ты бы в церковку сходил, сыночек ты мой, оно б и полегчало.
— Хех, мать! — грустно усмехнулся человек. — Да я б весь иконостас соборный свечками заставил. — И, скрывая вздох, подытожил: — Не мелочился б…
Бабы, высвечивая из темноты глазами, глядели на своего спасителя, смахивая горько-соленые капли дождя.
И шагая сейчас по борозде, поняла Дуриманиха, что за тяжесть давила того человека. Он уже тогда, сквозь дождливую глухомать ночи, видел сегодняшнее ласковое солнце и уродливо придавленных к земле баб перед плугом. Потому так долго не решался спросить:
— Вы у меня тож безлошадные?
Из темноты выступил дед Поликарп и виновато развел руками, бессловесно за весь колхоз извинился.
— Ладно, отец, — сказал человек в дождевике, садясь в кабину. — Завтра придешь в районную ветлечебницу. Скажешь, что от Кондратьева. Может, найдут тебе чего…
— Кондратьева найдут? — Из-за шума дождя и гудения мотора не понял дед.
— Коня тебе дадут! Бракованного, правда… Ну! — И человек извиняюще махнул рукой: мол, война, отец, не обессудь.
— А! — обрадовался, аж затопал на месте дед. — Дай-то, Бог, сынок! А Кондратьев это кто?
— Да я это… Не будут давать, в райком зайдешь!
И уехал, как растаял, не дослушав радостного бабьего всхлипа.
А картошечку ту перебрали, обдули каждую и снесли в уцелевшую церковь под замок и решетки от себя и детей.
А накануне сева, вымели дети с опушки березняка прошлогоднюю листву и перегной, какой поддался, выскребли до белесой земли, до корней. И добро это по краям поля разнесли под скорбное молчание голого березняка. Он уже ничему не удивлялся, березняк этот, изведавший на себе месячное стояние фронта, когда его седые березы были ориентиром для тех и наших орудий.
Из обрубленных траншеями и воронками корней его, вместе с молодым соком, поднималась к вершинам гудящая боль. И боль эта, омывая ржавеющие в телах берез осколки, стекала на землю, такую же взорванную и не единожды убитую. И если удивлялись чему березы, так только тому, что сквозь их пробитую кожу все еще течет березовый сок, а не кровь, убитых под ними солдат.