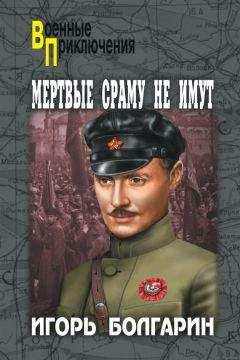Игорь Болгарин - Расстрельное время
— И это… Теперь вместе туда поедем. До детишков моих, до семьи. Они, верно, там. Только не в самой Евпатории, а неподалеку, в татарском ауле Донузлав. Я там полжизни прожил.
А Иван Папанин ходил вокруг них и радостно приговаривал:
— Ну, молодцы! Ну, надо же! А он мне всё: «Кольцов, Кольцов». А я ещё подумал: не такой Ковалевский дурак, чтоб на такую наживку пойматься. У него разведка и контрразведка. Враз бы всё вычислили. А выходит…
— А выходит — дурак, — добродушно сказал Красильников.
Потом они спустились на первый этаж, где уже вторую ночь занимали комнату Папанин и Красильников. Сюда хотели поставить два топчана для Кольцова и Гольдмана. Но Гольдман запротестовал:
— Я — с Бушкиным. А вы тут, повспоминайте. У вас есть что вспомнить.
В соседнем здании, бывшем доме купца Харитонова, нашлось место для Гольдмана и Бушкина, а также для всех членов отряда Кольцова. Там же, в добротном сарае, который совсем недавно служил гаражом для харитоновского автомобиля марки «Остин», разместили лошадей. Пулеметы на всякий случай закатили в свое жилище.
Поначалу Кольцов, Красильников и Папанин сидели в комнате втроем. Кольцов и Красильников вспоминали друзей и знакомых, живых и погибших. Папанин сидел в уголочке на своем топчане, слушал, но в разговор не вмешивался. Понимал, что для них это святые минуты.
Потом из Феодосии вернулся комендант Владиславовки Кожемякин. Папанин познакомил его с Кольцовым. Кожемякин куда-то на минуту вышел и вернулся не с пустыми руками. Он вкусно поставил на стол две бутылки вина из чьих-то графских погребов.
— Извините, что недокомплект, — сказал он. — До такого вина полагались бы фрукты, но на них не сезон, — и уже к стоящему на столе вину добавил кулечек сахара, четвертинку буханки хлеба, три вяленых рыбины и завернутый в холстину кусок сала.
Выпили по полкружки вина, закусили рыбой и салом. Поговорили о Феодосии, где прошлой ночью какая-то банда проникла в музей Айвазовского, но ее спугнули, и все обошлось без потерь.
— Тут одна интересная банда по побережью Крыма мотается. Она еще до прихода наших войск здесь объявилась, — сказал Кожемякин.
— Чем интересная? — спросил Кольцов.
— Она главным образом по сейфам специализируется. Крымские богачи надеялись вскоре вернуться, кое-что в сейфы припрятали. А эти «медвежатники» сейфы уродуют. Лом и кувалда — их главный инструмент.
Узнав, что еще совсем недавно Кольцов был у махновцев, Кожемякин неожиданно проявил к ним большой интерес: как воевали, где сейчас?
— Чем объяснить ваше любопытство? — спросил Кольцов.
— Брат мой где-то там у них. Иван Кожемякин. Может, видели его или что слышали? Жив ли?
— Про него ничего сказать не могу. А воевали они хорошо, сам убедился, — коротко ответил Кольцов и добавил: — Сейчас, по моим сведениям, они в Евпатории или где-то поблизости. Если, конечно, не вернулись обратно к себе, в Гуляйполе.
— И как по-вашему, какое у них будущее? Я к тому, что конфликты с большевиками у них были. Простят ли? Не станут ли мстить? — спросил Кожемякин.
— Если вы заметили, большие, крепко стоящие на ногах люди, как правило, доброжелательные и великодушные, — сказал Кольцов. — Россия тоже большая и тоже, надеюсь, великодушная. Война кончилась. Кому мстить? И зачем? — и бодро добавил: — Будем жить! И, как в той сказке: и добро наживать.
Как бы исчерпав общие, интересующие всех темы, Кожемякин предложил Папанину:
— Идем ко мне, Ванюша! Может, удастся какой часок поспать. А им, — он кивнул на Кольцова и Красильникова, — им не до сна. Им небось хочется без свидетелей старое вспомнить и о будущем поразмыслить.
После того как они остались одни, Красильников предложил:
— А и вправду, давай чуток повспоминаем. Наверное, ты знаешь что-то такое, чего не знаю я. К примеру, жив ли Старцев?
— Жив и здоров. Он по-прежнему в Харькове.
И Кольцов подробно рассказал Красильникову о работе Старцева в Гохране. А это потянуло за собой воспоминание о неудаче Старцева в Париже. Рассказал о своей поездке во Францию Ивану Платоновичу на выручку.
Воспоминания сродни спутанному клубку ниток: потянешь за одну, а она вдруг оборвалась. А иная — бесконечная, с массой узелков, которые неторопливо развязываются. И вот у тебя в руках уже две, три нитки — только тяни, только развязывай!
Рассказывая о своей поездке в Париж, Кольцов не мог не вспомнить Фролова. И пошел новый рассказ об удивительном повороте в жизни их общего давнего друга. Из чекистов он вынужденно, по велению партии большевиков, стал банкиром, работал в Турции и Англии, а в последние месяцы переселился в Париж, совладеет одной из крупных банкирских контор.
Следом возникла еще одна ниточка, еще одно воспоминание — о человеке, который сыграл важную роль во время поездки Кольцова в Париж. Он рассказал все, что знал и помнил о графе Юзефе Красовском (он же румынский барон Гекулеску). На самом же деле, если ему верить, он был обнищавшим русским дворянином Юрием Александровичем Мироновым. Это был уникальный экземпляр в коллекции персонажей, с которыми сводила Кольцова жизнь. Его бы показывать в цирке: единственный в России дворянин, который зарабатывал себе на кусок хлеба малопочтенной профессией «медвежатника» и другими головоломными аферами. Он даже ухитрился продать Эйфелеву башню: один раз богатому шейху, а второй раз — американскому миллионеру. Ни один из пострадавших обращаться в суд не стал.
Потом Красильников вспомнил о дочери Старцева Наташе.
— Она тоже в Харькове?
— Ее нет в России. Уехала. Влюбилась во врангелевского офицера и уехала. Кажется, в Аргентину или в Мексику.
— Во, рыбья холера, как жизнь все перекручивает, — вздохнул Красильников. — Последний раз я видел ее в горах. Она ехала в сопровождении офицерика. Сказала, что это наш человек. Я, старый дурень, ей поверил, а мог бы спасти.
— И хорошо, что не спас. А она своей ложью спасала не офицера, а своего возлюбленного. Ты не злобись на нее, Семен Алексеевич. Это — любовь. Он — полковник, артиллерист. Фамилия, насколько помню, Барсук-Нездвецкий.
— Дожились! — горестно вздохнул Красильников. — Эх, Натаха, Натаха! А я уж, грешным делом, мечтал: кончится война, и выдам я ее замуж за хорошего парня, смелого, умного, лихого чекиста!
— И кого же ты ей присмотрел? — с легкой иронией в голосе спросил Кольцов.
— Тебя. Ты ей всеми статьями подходишь. И она тебе… Эх!
— Не огорчайся, Семен Алексеевич. Она счастлива, и это — главное. Всей своей жизнью, опасной работой в подполье она заслужила свое женское счастье.
— Но ведь белый офицер, Паша! — не принял доводы Кольцова Красильников. — Заклятый наш враг!
— Кончилась война, Семен! Все! Другое время. Нет больше белых и красных. Есть просто люди. Хорошие и плохие.
— Не согласный я с твоей философией! Париж на тебя, что ли, так повлиял? — И, слегка пристукнув кулаком по столу, он твердо произнес: — Нет, Паша! Были красные и были белые! И были они нам кровными врагами. Из памяти это не вычеркнешь.
— Но я не хочу жить в том мире, где будут белые и красные. Это будет мир злобы и ненависти, — спокойно сказал Кольцов.
— А что? Простить? — рассерженно крикнул Красильников. Кольцов никогда не видел его таким. Он даже не мог предположить, что в душе этого тихого, покладистого и даже слегка флегматичного человека бушуют такие страсти.
— Нет, конечно. Прямых виновников войны не так много. С этими действительно надо разобраться. Кто этого заслуживает, наказать. А остальных — да, простить. Самое страшное, если мы разделим людей по цветам и стравим их друг с другом. Мы свалимся в Средневековье, в мракобесие. Подумай об этом, пожалуйста, и пойми.
— Ага! Понять и простить?
— Да! Понять и простить!
— Я подумаю, — миролюбиво пообещал Красильников, поняв, что спор переходит в ссору. А она не нужна ни ему, ни Кольцову.
Потом вспомнили о Юре. Кольцов ничего о нем не знал, Красильников тоже. Жив ли? Где находится? Чью сторону принял? Его неокрепшую душу еще можно было легко повернуть в любую сторону.
Красильников сказал, что от кого-то слышал, будто у Климова в авиаотряде летал мальчишка лет пятнадцати. Его чуть не сбили. И лично сам Фрунзе запретил ему летать на боевые задания.
— Я уверен, это Юрка, — сказал Красильников.
— В Каче его надо искать, у дядьки. Если, конечно, его дядька не бежал с Врангелем. Мог и Юру с собой забрать, — задумчиво сказал Кольцов.
— Не, Юрка не такой! — не согласился Красильников. — Я уверен, он у Климова!
Ночь тихо приближалась к рассвету, а они все продолжали говорить. Вспомнили всех, кого когда-то знали, и чья судьба была им интересна.
Лишь одно табу Красильников не нарушил: ничего не спросил у Кольцова о Тане Щукиной. Он знал о их любви и не одобрял Павла. Понимал, дело слишком личное. Захочет, сам расскажет.