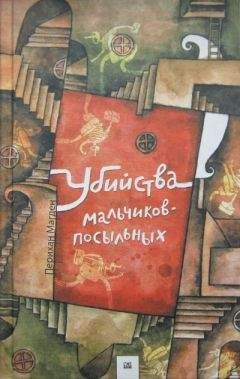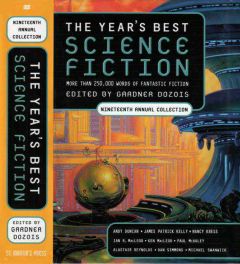Андрей Платонов - Живая память
Дед Жумакадыр не любил сидеть без дела. Зимой и летом его находила работа, он никогда не расставался с топором и кетменем. Его огромные руки с толстыми искривленными в суставах пальцами были все в глубоких трещинах, будто их исполосовали острым ножом.
Богомольные почтенные старики в аиле недолюбливали Жумакадыра. Все они каждую пятницу приходили помолиться в старую мечеть на верхней окраине аила. Но Жумакадыру, видно, и в голову не приходило когда-нибудь туда зайти.
Однажды, бегая с ребятами, я очутился возле мечети. Мулла в белом тюрбане сидел впереди стариков лицом к югу и читал вслух молитвы. Он поднял обе руки, промолвил: «Аллоу акпар», — провел ладонями по лицу и бороде. Все аксакалы сделали то же. Потом они поднялись и сели у стены, прислонившись к ней спинами. Мулла начал рассказывать притчу о загробной жизни, о рае, угрожая неверным адскими мучениями.
— И у нас в аиле завелся неверный, — сказал один из стариков. — Разве Жумакадыр думает когда-нибудь о том, что его ожидает на том свете?
— Э-э, — сморщившись, протянул другой, с козлиной бородкой. — Сам аллах его проклял.
— Всемогущий аллах дал полную свободу всем и каждому. Каждый волен поступать так, как ему заблагорассудится, — разъяснил мулла. — Кто не выполняет законы шариата, тот легко поддается обольщениям шайтана. Богоотступникам шайтан сулит неземные блаженства, и они идут у него на поводу, не замечая своего грехопадения... Так написано в Коране.
И я, каждый раз как увижу Жумакадыра, так сразу вспоминаю эти слова. Вот и сегодня, когда мы шли на мельницу, всю дорогу они вертелись у меня в голове. Виделся мне красный негаснущий огонь ада, уготованный для грешников, и мост над ним толщиною с волосинку, по которому предстоит им пройти, чтобы попасть в рай. Об этом много рассказывал мне отец. В поздний вечерний час я слышал, как он заунывно тянет, сидя в углу на тахте:
На все аллаха власть:
Он судит, он прощает,
Дракону прямо в пасть
Он грешников бросает.
Сначала грешников разваривают в котле, — это я тоже знал из песен отца, — потом дракон пережевывает их шестьюдесятью двумя зубами.
Мне кажется, старому Жумакадыру не миновать вариться в адском котле. Интересно, почему же он не боится ада? Какой же он странный. Но учитель тоже говорит, что ада нет. Наверно, учитель лучше муллы знает? Тогда понятно, почему дед Жумакадыр ходит себе преспокойно, не обращая ни на что внимания...
Как-то в прошлом году, поздней осенью, вдруг начался большой снегопад.
Был вечер, люди в аиле собирались спать. У нас в доме долго сидели при свете керосиновой лампы, вспоминая ушедших на фронт односельчан, рассказывали о войне. Такие разговоры я слышал не впервые, но в тот вечер много было страшного. Я долго не мог уснуть. Война представлялась, как в кинокартине «Чапаев»: строчили пулеметы, падали люди, сраженные пулями; их топтали кони, текла кровь. Я старался не думать о войне, но все время думал о ней. Да и как не думать, ведь мои старшие братья на фронте.
Вдруг они уже лежат простреленные. Лежат и не могут встать...
Наконец я все же уснул.
Среди ночи я вскочил от какого-то крика. Все окно было кровавого цвета. Я выглянул на улицу. Спросонок мне показалось, что вся она объята пламенем. Доносился шум, тревожные крики:
— Дом горит! Что они теперь будут делать, несчастные!..
Чей дом горел, кто были эти несчастные, я не знал, а выйти на улицу боялся.
Через некоторое время наши вернулись домой. Отец морщился от боли, руки у него были обожжены. Пока мать натирала картошку и прикладывала ее к ожогам, он рассказывал, как спасал имущество старика. Оказывается, горел дом Жумакадыра. Кто поджег, неизвестно. «Тяжело теперь будет ему, единственный сын на фронте», — с жалостью говорили мои родные. Я, как услышал про поджог, затрясся, как в лихорадке. Казалось, вот-вот и наша крыша запылает огнем.
Долго я не мог уснуть. Все время перед моими глазами стоял сын Жумакадыра Орозбай. Он дружил с моими старшими братьями, вместе с ними был в комсомоле и теперь вместе с ними там, на войне...
Утром, когда я вышел на улицу, вокруг было все бело. Ива с еще не опавшими листьями склонилась под тяжестью сырого первого снега. Из труб поднимался дымок. Я сразу побежал к дому деда Жумакадыра.
Старик ходил с лопатой и разгребал снег. Он откапывал свое имущество, которое вынесли ночью из объятого пламенем дома. Дед Жумакадыр был спокоен, словно ничего и не случилось. Дворовый пес лежал, свернувшись калачиком, спрятав морду под хвост. Дед бросил на него пару лопат снега, завалил. Испуганный пес выскочил, отряхнулся, громко залаял и, оглядываясь, побежал трусцой. Это так рассмешило Жумакадыра, что он встал, опершись на свою лопату, и захохотал на весь кыштак.
— Теперешние собаки шелудивые. Так-то, сынок...
Я смотрел на него во все глаза. У него сгорел дом, а ведь зима уже стучалась в ворота, и его единственный сын, на которого вся надежда, был на фронте.
— Черт с ним, с домом, — сказал Жумакадыр. — Его все равно надо было сносить. Вернется Орозбай — поставим новый, вот на этом месте. — Он отмерил широкими шагами площадь будущего дома и очертил лопатой. — А вот здесь сделаем дверь. Дом будет из двух половин, посредине — общая передняя.
— Отчего все-таки был пожар? — с сочувствием спрашивали люди, подходя к нам.
— Дымоход неисправный, ну и прорвался огонь.
— Странно как-то.
— А впрочем, не все ли равно? — Жумакадыр махнул рукой. — Была, наверно, какая-нибудь причина. Не подпалил же человек человека!
Мне, всю ночь не спавшему из-за пожара, было обидно, что дед Жумакадыр так безразлично относится к своему горю. Конечно, ему об этом я сказать не мог.
Мельница, куда мы возим зерно, — маленький домик с неровными глинобитными стенами, пыльными от муки.
Жумакадыр понес мешки, а мне велел пасти ишаков и волов в кустарнике за мельницей. Я поднялся на высокий, как дом, камень, сел и следил за ними. За спиной шумела стремительная река, ударяясь о камни и расплескивая белую пену.
Поздно вечером мельница закончила молоть наше зерно. Двадцать километров нам предстояло тащиться обратно. К тому же надо было переправиться через довольно глубокую речку. Днем, когда переходили через нее вброд, у наших волов только спины выступали из-под воды, а ишаки переплыли, как утки. Я бы, конечно, заночевал на мельнице, не ушел бы отсюда, пока не станет светло. Оторопь берет, как только вспомню про эту страшную дорогу с ее лесами да камышами.
— Дед Жумакадыр, давайте останемся здесь до утра.
— А что случилось?
— Да ничего... Я говорю, лучше завтра утром пойдем.
— Боишься, мой щеночек, что ли?
— Дорога плохая, через речку надо переправляться.
— Эх ты, трусишка. Если боишься воды, я тебя на своем горбу перенесу.
Дед Жумакадыр навьючил на волов и ишаков мешки с мукой, и мы тронулись в путь. А ночь черная, хоть глаз выколи. То идем лесом, то по склону холма, то в гору, то с горы. Трава высокая, темная, густая. Лес полон прохлады, сырости, чем дальше, тем он гуще, таинственней. Я слышу, кто-то ходит рядом, в кустах, затаил дыхание, сейчас бросится на меня. Ишаки спешат: на них тяжелая поклажа. Быки идут сзади, с трудом переставляют ноги.
— Проходи вперед, веди караван, — предлагает мне дед Жумакадыр.
А как мне проходить вперед, уйти от деда, когда мне даже рядом с ним страшно?
Дед Жумакадыр и в ус не дует. Шагает себе не спеша вверх по склону, похрапывает: никогда до этого я не видел человека, спящего на ходу. Иногда он храпит так громко, что даже сам себя будит, а то, засыпая, останавливается.
— Дед Жумакадыр, чего же вы стоите, ишаки-то уйдут далеко, — хнычу я.
— Пусть уходят. Дальше дома никуда не уйдут.
— А волки—
— Пускай не торопятся, если волков боятся...— хохочет дед и протяжно затягивает на старинный мотив:
Куда катится, где закатится
Эта яркая звезда?..
Дед поет долго, а когда он поет, мне не страшно.
В конце концов бригадир прикрепил меня к деду Жумакадыру.
Как-то несколько дней подряд мы с ним вдвоем возили сено. Он мне накладывал на волокушу, а я возил к скирде. Дед Жумакадыр работал как вол. Бывало, я утомлюсь и усну, сидя верхом на быке, он снимет меня осторожно, уложит у копны и работает один. Сам накладывает, сам возит.
Наш колхоз начал убирать ячмень. В этот день бригадир Абдыкар, как всегда, пришел пьяный. У Абдыкара щеки красные; все время облизывая губы, вытаскивает из-за голенища камчу, покачиваясь перед женщинами, ругает их и спрашивает:
— Почему не здороваетесь?