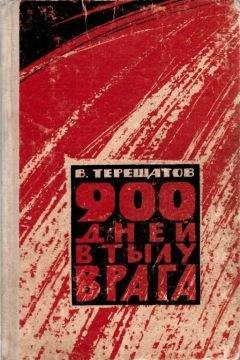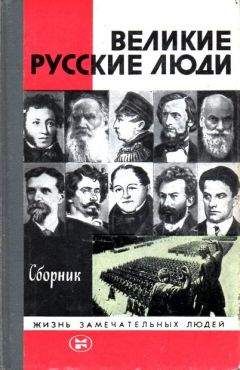Андрей Дугинец - Стоход
Целую неделю бродил Санько по лесу вдали от родного села, ночевал в стожках, в копнах сена. Боялся даже идти в домик на понтоне. Наконец не выдержал, решил навестить мать и ребятишек. И вот крадется к родному дому, как вор. Идти во весь рост нельзя: при луне далеко видно. Санько неслышно ступает на рыхлую, руками матери возделанную землю, а сердце стучит так, что в ушах отдается, как тяжелый топот конских копыт.
Вот и сарай. Запах прелого камыша, накошенного еще зимой и сложенного под сараем, запах родного двора. Чужие дворы не так пахнут. В них неуютно и всегда чего-то не хватает. А в родном дворе, как и в самом доме, стоит особый, на всю жизнь запоминающийся запах. Почти не остерегаясь, Санько выбежал из огорода и встал под стрехой сарая, в тени. Но здесь к знакомому запаху двора примешалось что-то другое, чуждое, непривычное. Со двора потянуло гарью. Тревожно защекотало ноздри, когда новый порыв ветерка принес кисловато-горький запах. Санько высунулся из-за угла сарая, посмотрел на освещенный луной двор и подумал, что заблудился: двор перед ним был чужой, незнакомый. В правом углу, там, где стояла хата, чернела какая-то огромная куча. А над этой кучей склонилась почерневшая верба, у которой вместо тяжелых раскидистых ветвей торчали в небо короткие, покореженные сучья.
— Ма-а-ма! — приглушенно позвал Санько.
— Саня, Санек! — тихо и нежно послышалось в ответ откуда-то из-за соседнего сарайчика.
Санько сбежал с пепелища на середину двора, ярко освещенного луной.
— Сынок, иди сюда, — послышалось снова.
Санько вздрогнул: это звала не мать. Но голос был такой душевный и ласковый, что Санько невольно пошел на него.
В тени старого соседского сарайчика его без слов обняли теплые женские руки. Он покорно прильнул, еще не зная к кому. И, чувствуя, что женщина плачет, тоже безудержно заплакал. И не по лицу, которого не было видно, не по натруженным шершавым пальцам, лежавшим у него на щеках, а внутренним чутьем узнал он мать своего друга.
— Тетя Оляна! Где же они?
— В хате… — чуть слышно прошептала Оляна, глотая слезы. — В хате. Это Сюсько. Загнал всех в хату, старух, детей. Двери, окна забил. А потом… — Слезы не дали ей досказать, и она одними губами прошептала: — Подпалил…
— А где ж были люди! — скорее простонал, чем закричал Санько. — Почему не тушили?!
— Были тут и люди. Всю Морочну согнали полицейские. Только тушить не дали: кругом с автоматами стояли, а на середине двора пулемет выставили. Коля был на рыбалке. Вернулся, когда хата уже вся занялась. Савка с Левкой схватили его один за руки, другой за ноги, раскачали и бросили в окно, прямо в огонь…
Санько больше ни о чем не спрашивал, да и не в силах был спрашивать… Оляна что-то ему говорила, о чем-то предупреждала, куда-то посылала. Но все это шло мимо его сознания.
Тихо, теперь уже не таясь, Санько подошел к пепелищу и вздрогнул: почудилось, что там застонала мать. Не соображая, что делает, быстро направился на улицу. Но сильным рывком Оляна удержала его.
— Не ходи туда. Погибнешь. Один ты против них, как жаба против быка. Иди в лес. Там теперь много таких, как ты. У них оружие…
Санько, понурив голову, долго молчал. Наконец тихо, угрюмо ответил:
— Искал. Никого нету в лесу.
Оляна глянула вдоль улицы, залитой туманом, и шепнула в самое ухо:
— К графскому озеру иди. Туда красноармейцы никого не пускают. Значит, что-то есть…
— А вы ж чего тут в полночь? — спохватился Санько.
— Я ж знала, что ты придешь домой… Да и за Гришу боюсь. Вернется, а не знает, что тут Сюсько хозяйничает.
— То правда. Этот гад не помилует. — И Санько, стиснув зубы, поклялся: — Ну я ему долго хозяйничать не дам!
— Только не связывайся один. Убьет!
— Меня теперь ни огонь, ни пуля не возьмут, пока не отомщу!
Из села Санько возвращался тоже огородом. Но уже не пригибаясь, не таясь. В конце своего огорода остановился и долго смотрел на обожженную вербу, выглядывавшую из-за сарайчика. Смотрел на черные, поднятые к безучастной луне обгорелые ветви, и ему казалось, что это не дерево, а руки матери. Из-под кучи тяжелого пепла, из-под обуглившихся бревен сгоревшей хаты она подняла руку со сведенными судорогой пальцами и то ли молилась, прося у неба жалости, то ли проклинала убийц.
Санько, глубоко засунув руки в карманы и сцепив зубы так, что они заскрипели, с лютой злобой посмотрел туда, где волчьим глазом светился желтый огонь и по-прежнему раздавались пьяные выкрики немцев.
На опушке леса он опять оглянулся. Село утопало в сизом тумане, над которым одиноко плыла полная холодная луна. И снова, как наяву, Санько увидел руку матери, поднятую над селом. Она взывала к мести…
* * *Тяжело, бессильно повисли руки. Устало, безнадежно опущена голова. В ней звон, тихий, монотонный, в висках, в затылке, в ушах. Лишь ноги с огромным трудом, словно на разбитых кирзовых сапогах налипло по пуду грязи, шаг за шагом отмеривают километры, десятки, сотни, а может, уже и тысячи километров — так бесконечен и горек этот путь.
Тупо, бесцельно смотрел Гриша на зеленый солдатский котелок, болтавшийся на поясе за спиной бредущего впереди тяжело раненного комиссара Зайцева. Всю дорогу этот надоедливо тренькающий, монотонно, как маятник, раскачивающийся котелок раздражал Гришу.
Можно было перейти в другой ряд колонны или поменяться с соседом местом. Но на это требовалось лишнее усилие, а главное — желание. Но желаний, кроме желания есть, не было.
Шедшие рядом товарищи хотя с трудом ворочали языком, но упрямо, всю дорогу спорили о политике, о войне, выясняли причины, почему фашистам удалось так быстро прорваться в глубь нашей страны…
Когда человек устает от одной день и ночь угнетающей его мысли, когда в голове его начинает гудеть от кошмарных видений, он теряет способность думать о чем-либо важном и все его внимание сосредоточивается на чем-нибудь совершенно ненужном, незначительном. Так и Гриша не в силах был думать о том, о чем спорили окружавшие его товарищи. Случилось это с ним после Морочны, когда он потерял надежду на спасение.
Можно было бы попытаться бежать. Но Александр Федорович был слишком слаб, а оставить его одного Гриша не хотел да и не мог. Поправиться же в этих условиях Моцак едва ли сможет. Да и куда бежать? В родном селе теперь появляться им нельзя. Ведь Савка обязательно отомстит матери, деду, Анне Вацлавовне. Безысходность положения стала исподволь размагничивать подростка, выматывать его последние силы.
И вот уже который день Гриша плелся в колонне, не способный ни о чем думать, ничего желать. Лишь изредка вкрадывались воспоминания о прошлом, о матери с дедом, об Олесе, об учебе. Но все это заглушалось надоедливым треньканьем солдатского котелка.
И вероятно, как раздражал Гришу котелок, так шедшего позади него старого усатого солдата раздражал черный футляр со скрипкой, что висел за спиной паренька. Усатый в конце концов не выдержал:
— Сам еле скрипит, а несет скрипку… Кому собираешься на ней играть?
— Тебе! — обернувшись, ответил Зайцев. — Тебе сыграет, если поумнеешь да надумаешь жить.
Усатый ничего не возразил, только безнадежно махнул рукой:
— До музыки ли теперь…
— Да-а, — соглашаясь с ним, тяжело вздохнул седой интеллигентный человек лет пятидесяти, шедший рядом с Гришей. — Когда гремят пушки, музы молчат…
— Но вам, товарищ доктор, — с расстановкой, отдыхая после каждого слова, заговорил комиссар, — должно быть известно и другое: ни одна революция не обходилась без музыкантов, а на Украине ни одна освободительная война не проходила без кобзарей. Музыка дух поднимает… Мы сейчас бессильны: безоружны. А он один во всей колонне не бросил своего оружия!
Колонна вошла в лес. И у многих загорелись глаза жаждой побега.
Дикий, буйный и какой-то зажигающий взгляд бывает у человека, решившегося бежать из неволи. Что-то степное, тревожное и радостное появляется в его лице, как бы он ни был изнурен и замучен. Посмотришь на такое лицо и сам невольно станешь сильным, решительным.
Шедший рядом с Гришей высокий белобрысый боец давно порывался бежать. Но каждый раз ему что-то мешало… И все же настал его час.
Как только вошли в лес, конвойные взяли винтовки наизготовку. Старший передал по колонне, что за каждого бежавшего будет расстреливать десяток. Этим он хотел добиться, чтобы пленные сами удерживали беглецов. Но такая угроза уже давно потеряла силу. Пленные не только не удерживали тех, кто еще имел силы бежать, но, наоборот, радовались каждому удачному побегу.
Белоголовый передал Грише свою сумку от противогаза, в которой остались хлебные крошки и вполне съедобные картофельные очистки. Высоко вытянув шею и неотрывно глядя в густую зелень леса, он жадно докуривал цигарку, которая уже обжигала руки и губы, когда затягивался. Но бросать ее было еще рано. Бросить ее можно только как сигнал к прыжку.