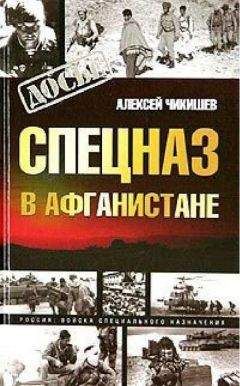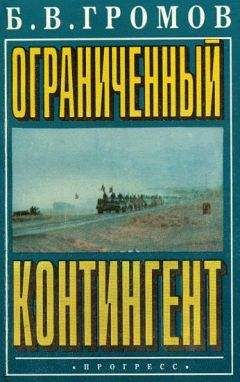Владимир Шорор - Найдется добрая душа
На всякий случай я снова проверил карманы своего потертого офицерского кителя, сшитого перед демобилизацией, два года назад. И, не найдя ничего, спросил:
— Так что же будем делать? Какой выход из положения?
— У меня положение безвыходное, — объявил Ленька, затягивая ремень на старой солдатской гимнастерке, которую он носил с матросскими клешами. Он всегда выражался категорически, не выносил недомолвок, половинчатых решений, был самым терпеливым к лишениям и самым резким в суждениях, этот бывший командир санитарного взвода.
Ленька встал с кровати, молча вынул из тумбочки общую тетрадь и снова уселся по-турецки, собираясь что-то писать.
— Безвыходных положений не бывает! — непререкаемо объявил Мишаня. И в его серых, удлиненных глазах вспыхнул фантастический огонек.
Мы рассмеялись: Мишаня любил провозглашать теоретические истины, которые не так-то легко претворять в жизнь.
— Эх, юноша, — вздохнул Борис, — не клевал тебя жареный петух, не клевал!..
И на минуту в комнате стало тихо: за словами Бориса стояло такое, что даже нам казалось жутким. Три года Борис был в плену, куда попал летом сорок второго, расстреляв все патроны и потеряв почти весь свой взвод, при отчаянной обороне безымянной высоты под Воронежем.
— Мы с Витей всегда находили выход, — пробурчал Мишаня. И сегодня найдем!..
— И я найду, — сказал Ленька. — Терпеть буду, на кипятке и хлебе продержусь. Подумаешь, два дня до стипендии. Не продержусь, что ли? В сорок втором, когда мы из окружения пробивались, из-под Харькова, там похуже было…
Если мы вспоминали о пережитом на фронте, Мишаня сразу умолкал. Однажды, правда, и он вставил словечко из своего прошлого. В тот раз Гриша и Ленька почему-то вспомнили новогоднее наступление и дружно перечисляли трофеи — консервы, шнапс, печенье, сигареты, шоколад, — доставшиеся их взводам.
— И нас тоже под Новый год отоваривали, — сказал Мишаня, улучив минуту. — Плавленый сахар давали. Весь день я потом этот сахар у станка посасывал.
На плавленый сахар никто не обратил внимания, и с тех пор Мишаня всегда молчал, если мы вспоминали о фронте, понимая, что не может ничего противопоставить нашей, столь завидной в его глазах, военной судьбе. Но, помолчав, начинал донимать нас своими наивными вопросами. И сейчас напористо опросил Леньку:
— Ну, все ж таки, вы что-то ели в этом окружении? Вам паек-то какой-нибудь интенданты выдавали? А у нас совсем ведь ничего нету!..
— Конечно, ели, — спокойно согласился Ленька. — Сначала дохлый мерин был, его съели. А когда ни кусочка конины не осталось, почки березовые ели. Никогда не ел почки? Березовые? Ремни жевали. Не приходилось? А ты попробуй!..
Мишаня подавленно смотрел на меня. Взгляд его просил: заступись, поддержи…
Но мог ли я поддержать его, если беспощадные слова Леньки напомнили о моем собственном выходе из окружения, когда я тоже ел эти невыносимо горькие березовые почки, ел, чтобы совсем не обессилеть и хоть немного заглушить терзавший меня голод. Мы все, четверо, знали и видели такое, что не укладывалось в обычные человеческие представления о жизни. И объяснить это было невозможно, это мог понять лишь тот, кто сам видел и пережил. И это роднило всех нас, мы иногда понимали друг друга без всяких слов.
Воспоминание о пережитом вновь натолкнуло на мысль о тайничке на дне моего чемодана. «Нет. Никогда, — подумал я. — Еще можно держаться. Выкинь из головы. И не вспоминай!»
Но, будто поняв мои мысли, Мишаня с надеждой спросил:
— А в чемодане, Витя, ничего не осталось?
Этот кожаный чемодан попал ко мне еще в Маньчжурии, когда мы заняли какой-то военный городок, откуда вместе с танкистами только что выбили японцев. Чемодан валялся в кювете, рядом с перевернутой машиной.
— Подбери, — сказал я своему старшине, — авось тебе в гражданской жизни пригодится…
Старшина швырнул чемодан в подъехавшую батарейную бричку, и я сразу же забыл о нем — далеко впереди возникла перестрелка, а в стороне, в болотце, разорвалась мина… Но когда, демобилизовавшись, я уезжал из полка, старшина принес чемодан на станцию. Я не хотел его брать, но дальновидный старшина настоял:
— Вы же опять студентом будете, а это для подспорья, от всей батареи. — И он втолкнул чемодан в тамбур вагона.
Чемодан выручал нас с Мишаней почти весь год. В трудную минуту я доставал оттуда то какую-нибудь заграничную рубашку, то шелковый платок, то узорчатое махровое полотенце, отдавал Мишане, он бежал с этим добром на рынок и возвращался с картошкой, хлебом, пшенным или гороховым концентратом. Теперь в чемодане оставался только тайничок. Но он был неприкосновенным.
— Чемодан, как ни прискорбно, пуст, — ответил я и подумал, что придется все же ехать к Вале и Юрке. А мелкие деньги отдам Мишане.
В этот момент дверь открылась, и появился незнакомый нам коренастенький малый. Он улыбался так широко и весело, излучал такое доброжелательство, что в другое время не улыбнуться в ответ было бы невозможно. Но мы, насторожившись, хмуро смотрели на вошедшего.
Был этот малый в новеньком сером пальтеце, ладно пригнанном, в новой шапке шелковистого темного меха, из-под нее лезли густые, давно не стриженные, пшеничные кудри. На незнакомце висел фотоаппарат, кокетливо сдвинутый чуть вбок, в руке — коричневый фибровый чемоданчик. И свежий румянец на сытом, довольном лице, и весь его новенький, из магазина, вид совсем не сочетались с нашей студенческой одеждой тех, послевоенных времен — ни с выгоревшей Ленькиной гимнастеркой, ни тем более с рабочей спецовкой Мишани, напоминавшей о его заводских бессонных вахтах.
Вошедший продолжал нам улыбаться, вот-вот рассмеется, радовался, ну, просто сейчас возьмет и кинется в объятия, будто братьев родных после военной разлуки встретил. Но, увидев нашу настороженность, покраснел, опустил, растерявшись, веселые глаза.
— Откуда ты, прелестное дитя? — спросил Борис своим звонким и бодрым голосом, в котором всегда скрывалась едва заметная ирония или насмешечка, свойственные характеру Бориса. Этот характер не сломился за три года фашистских лагерей, неудачных побегов, зверских побоев. Борис острит почем зря, беззлобно разыгрывает ребят и остается самым мудрым и самым добрым из всех нас. И, пожалуй, самым талантливым.
Вошедший опять заулыбался, даже хохотнул:
— Я-то откуда? А из Германии я, ребята. Из Дрездена. Демобилизовался вот…
— На демобилизованного солдата, скажем прямо, ты не особенно похож, — заявил Гриша.
— И даже отдаленно не похож, — подтвердил Ленька.
— Так я все же старший сержант! — не то в шутку, не то всерьез воскликнул малый.
Ленька сдержанно рассмеялся, а Мишаня сказал не без ехидства:
— А они, между прочим, все до одного офицеры. Вот в чем вопрос!
— Так я ведь еще целый год, после демобилизации, вольнонаемным делопроизводителем служил. Деньги зарабатывал, — пояснил гость, сообразив, на что намекал Мишаня.
— Тогда все понятно, — миролюбиво сказал Гриша. — Ну, пройди, что ли, расскажешь, как там в поверженном фашистском логове?
— Для начала только представься. Как тебя звать-величать? — спросил Борис.
— Кустиков я, Слава Кустиков, — он подавал каждому руку, повторяя: — Кустиков, Слава Кустиков, Кустиков Слава…
Он присел на стул, поставил чемоданчик, спросил:
— А вы тут все студенты? Все тут учитесь? И все пишете?
— Не пишем, юноша, а двигаем вперед великую литературу, — сказал Борис.
Кустиков рассыпал мелкий смешок, сказал:
— А я ведь тоже… Того, кое-что, ну, это… Написал, в общем.
— Стихи, проза? — деловито осведомился Ленька и снова подтянул флотский ремень на своей пехотной гимнастерке.
— А все вместе, — ответил Кустиков. — И стихи есть. А прозы больше. Я к вам хочу поступить. Примут?
— Сначала надо посмотреть, что за проза у тебя, — солидно сказал Мишаня.
— А то много вокруг института всяких-разных ходит-бродит, — подключился Борис. — Один даже с фанерным ящиком приходил…
— Почему с ящиком? — не понял Кустиков.
— В ящике рукопись. Роман. О будущей бактериологической войне между Парагваем и Уругваем. Живет, заметим, на станции Большие Петухи, а пишет о Парагвае. Две тысячи страниц. За год, говорит, написал. И продолжает угрожать обществу: еще, говорит, пять таких напишу — продолжение!..
Кустиков озадаченно замолчал.
— Пойти, что ли, кипятку принести, — ни к кому не обращаясь, произнес Ленька. — А то совсем живот подвело…
— Возьми мелочь, — сказал я Мишане, — сходи в булочную, хлеба хоть с Ленькой пожуете…
— А ты сам?
— Я сегодня перебьюсь. К друзьям поеду.
Кустиков заинтересованно прислушался, посмотрел оценивающе на каждого из нас.
— Ну, давай, — сказал Мишаня. — Сколько у тебя там?