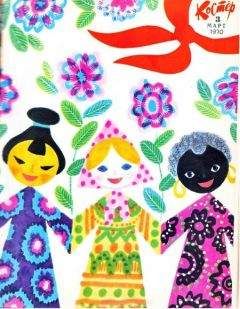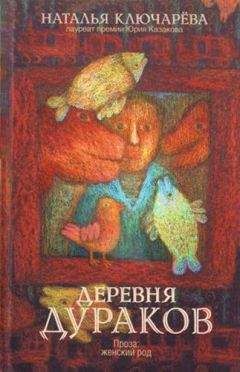Борис Леонов - Солдаты мира
Дорожка света метнулась под ноги — это Борис, распахнув дверь, вышел к нам.
— Извини, Паш! — сказал он, зевая. — Мне завтра, то есть сегодня, вставать чуть свет. Зовут тебя посошок на дорожку выпить.
— Ну, до свидания, пойду я, — смутилась Лида и застучала каблучками вдоль палисадника.
Последним жал мне руку Борис.
— Пиши, — повторял он, — главное, пиши чаще. Письма разряжают нервы. Это я в хорошей книжке вычитал. Письмо написать — все равно что с другом поговорить. А кто тебе друг, если не я. Да, — спохватился он, — чуть не забыл, — и, порывшись в портфеле, вытащил пакет. — Держи! Финский почтовый набор. Хватит на целых полгода — и бумага в линеечку.
Уже укладываясь спать, я вспомнил про Лидин сюрприз и вскрыл конверт. В нем оказался другой, поменьше.
«Как не стыдно! — прочитал я. — Ведь просила же открыть, когда переоденут в форму. Так и знала, что не удержишься. Целую, Лида».
…Вечер будто вчерашний, а я уже не на Апрелевской улице, а в кубрике. Интересно, где в эту минуту Борис?
Письмо первое«Борька, дружище, привет!
Извини за долгое молчание, но о чем было писать? О том, как перед назначением на корабль занимался строевой подготовкой? Представляешь, учились заново ходить.
«То, — говорит мичман, — чему вас мама научила, когда вам было по десять-одиннадцать месяцев, забудьте. Выше ножку! Шагом марш!» И вот мы маршировали с утра до вечера. «Разом-кнись!» «Сом-кнись!» Правда, занятия по специальности давали кое-какую отдушину. Тут начинал вспоминать, что ты все-таки мыслящая личность и не зря долбал физику и логарифмы. Но это — как солнце среди обложного дождя. В остальном же от подъема до отбоя как белка в колесе — бежишь, бежишь, а все на одном месте.
Сильно я надеялся на изменения, когда попаду на корабль. Ладно, думаю, выдюжу, зато потом «соленый ветер в грудь, счастливый путь!». Но вот я на корабле, и опять почти все то же. И тут от швабры не убежал.
Командир корабля — ничего особенного. Не отважный капитан, не объездил много стран. Была у меня с ним встреча. Странный какой-то. Цветы в каюте. Представляешь, в двух котлах — их здесь называют лагунами — охапки живых астр.
Ох и удивился он, когда узнал, что я с пятьдесят четвертого года рождения! А что тут позорного? Да, с пятьдесят четвертого. Не мы с тобой виноваты, что все эпохальные события состоялись или до нашего появления на свет, или застали нас в младенческом возрасте.
Мы родились через девять лет после Победы. И о войне знаем только по книгам и фильмам. А даты гражданской войны нам давались с таким же трудом, как войны из истории Древнего Рима. Мы учились всего лишь в четвертом классе, когда в космос пробился первый человек нашей планеты — Юрий Гагарин. «Да, ничего не поделаешь, — сказал мне командир, — эпоха шьется на вырост…»
Как это прикажешь понимать? Быть может, он примерил мой возраст к своему и увидел, какой я салажонок? Но ведь и они — не Нахимовы и не Ушаковы. И жизнь их — простая проза: в дозор — из дозора. Попахал море, поел — и спать. А служба идет.
Какая уж тут романтика! Здесь даже моря-то по-настоящему не видят. Сплошные приборки, прокручивания механизмов и политзанятия.
По-честному, Борька, завидую я тебе. Институт, науки!
Мне же остается ждать, пока пройдут эти годы. Правильно говорится: «Красиво море с берега, а корабль — на картинке». Сам лучше пиши мне почаще. Знаешь, как дорога здесь каждая весточка.
Привет всем знакомым, кого встретишь, обнимаю. Твой Павел».
Я полез в рундук за конвертом и наткнулся на карманный календарик, заложенный между страниц книги. Медленно и тщательно, растягивая удовольствие, я не перекрестил, а заштриховал на календарике первый свой корабельный день, благо компот был давно выпит. Но заштрихованных клеток оставалось столько, что и считать-то их было бы бессмысленно.
2
После отбоя я лежал на койке и, ворочаясь с боку на бок, ощущал под собой похрустывание пробкового матраца. Конопатый парень-гармонист уже безмятежно посапывал на соседней койке. За стальной переборкой шуршала волна, будто в дверь царапалась кошка. На меня немигающим оком тревожно смотрела синяя лампочка дежурного света.
Нет сна крепче матросского и нет его беспокойнее. После вахты лежишь на койке, как в невесомости. И вот уже словно тяжелеют, слипаются веки, ты куда-то покатился, связанный усталостью по рукам и ногам. Но чу! С той самой секунды, когда ты переходишь границу между явью и сном, в тебе начинает тикать невидимый будильник. «Тик-тик» — через четыре часа опять на вахту. «Тик-тик» — а может быть, раньше? Стрелку звонка этого невидимого будильника устанавливает чувство, которое незнакомо тем, кто не служил в армии. Я назвал бы это чувство постоянным ожиданием тревоги. Ее ждешь даже тогда, когда спишь.
В подразделении, где мы проходили курс молодого матроса, я попытался однажды перехитрить эту тревогу. Еще с вечера дневальный, мой кореш, по секрету шепнул мне, что ночью, возможно, будет объявлена тревога. Учебная тревога неожиданна только для матросов. Командир же заранее планирует ночь и час, когда она обрушится на сонную казарму. В считанные минуты нужно встать, одеться, схватить автомат и замереть в строю, готовом к бою. В считанные минуты! И чем их меньше, тем лучше. Даже соревнования проводят между ротами — кто быстрее поднимется и встанет в строй.
Для меня ожидаемая тревога не была первой. В том-то и дело, что на предыдущих двух или трех я уже приобрел кое-какой опытишко. Где самое слабое звено в цепи одевания? Самое слабое звено — это я теперь уяснил окончательно — в гд. Гд — матросская аббревиатура названия рабочих ботинок — грязедавы.
В этом нет ничего презрительного. Наоборот, в прочных, хотя и грубоватых на вид, ботинках, нога как дома в самую распутицу, в грязь, в дождь. Даже шнурки из сыромятной кожи тоже для крепости, для непромокаемости. Но слабое звено в «цепи одевания» и находится как раз в шнурках — требуется немалое искусство, чтобы продеть их в дырочки и как следует завязать. А главное, нужно время, которое в момент тревоги измеряется только секундами.
Лягу в гд, решил я. Подумаешь, одну ночь посплю не разуваясь, зато в числе первых буду в строю.
Я проснулся оттого, что в глаза ударил свет. Это дневальные. Прежде чем закричать: «Рота, подъем! Тревога!», врубают все выключатели. Тревога очень похожа на грозу: сначала молния — вот этот свет, разом вспыхнувший во всех кубриках, потом гром — голоса дневальных. Но слова «тревога» я, наверное, не расслышал — так сладко спал, что, проснувшись, еще лежал с минуту, не открывая глаз.
«Встать! — прогремело над моим ухом. — Матрос Тимошин! Это к вам относится!»
С меня как ветром сдунуло одеяло. Я приподнялся на кровати и прямо перед собой увидел мичмана. Он смотрел не на меня, нет, а на мои гд, и с таким видом, словно перед ним были по крайней мере ихтиозавры. Я зачем-то пошевелил ботинками и тем самым как бы вывел его из оцепенения.
«Видали! — развел мичман руками, обращаясь к одетым и уже готовым к выходу матросам. — Видали рационализатора? Два наряда вне очереди за такую рационализацию!»
«Тик-тик, тик-тик…» Наверное, там, где мы проходили курс молодого матроса, в меня и заложили невидимый будильник, который сейчас, на корабле, не дает сомкнуть глаз. Я смотрю в подволок (потолок по-морскому) и слушаю шебуршание волн. Корабль стоит у пирса, а все равно кажется, что он плывет, потому что море под ним ни на минуту не замирает, не останавливается. И швартовы натянуты сейчас, наверно, как струны. Это море зовет, притягивает к себе.
Где-то далеко на берегу и еще дальше, за тысячу километров по берегу, — Апрелевка. Интересно, что в эту минуту поделывают дома? Когда-нибудь изобретут телевизор в виде транзисторного приемника: включил, покрутил ручкой настройки — и вот, пожалуйста, мама хлопочет у плиты. «Мам! — скажешь ты в микрофончик. — Здравствуй! Это я. Ну, как жизнь? Ты жива еще, моя старушка? Жив и я, привет тебе, привет…»
Ничего удивительного — видим же мы по телевизору космонавтов, когда они на орбите.
Впрочем, я и без телевизора могу с точностью до часа сказать, что происходит дома в данный момент. Неписаный распорядок, установленный годами. И нарушается он в исключительных случаях: кто-то приехал в гости, кто-то заболел… Если бы знали, как мне хочется снова очутиться во власти того домашнего распорядка, которым я еще недавно тяготился!
Ладно, для того чтобы увидеть родных, телевизор, допустим, не нужен. Вот был бы у меня такой, на котором два переключателя — «Лида», «Борис». Который час? Восемь вечера? А ну, нажмем на кнопку «Лида»…
Ага! Вот она! Сумочка на пальчике, идет не торопится. Ну-ка, ну-ка, крупный план. Что за чушь? Неужели реснички прилепила и накрасилась? И веснушек не видно — запудрила. Что-то уж очень глаза у нее озоруют… И платье мини минимального. По-моему, раньше она таких не носила. Вот повернула на Комсомольскую. И тут совсем заскульптурилась, только каблучки цок-цок по асфальту. Ясное дело, прямая дорожка к Дому культуры. А там уж музыканты шпарят на электрогитарах — точь-в-точь как мушкетеры из телепередачи «Алло, мы ищем таланты!». Вообще-то они хорошо играют. Я знаю, что Лиде нравится. Бывало, пойдем на танцы, а она, сколько ни кружимся, все, как гирокомпас, направлена в одну сторону — к этим самым электрогитаристам, чтоб у них струны повыключались.