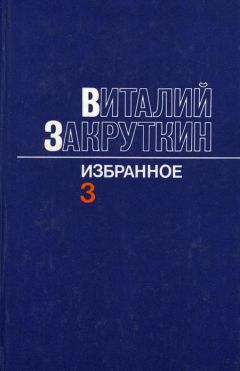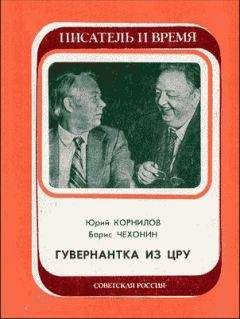Алексей Котенев - Последний перевал
Ермаков кинул беглый взгляд на свою «пятерку нападения» и про себя решил: ночевать в Чите нет никакой надобности. Надо сегодня же получить отпускные документы и рвануть в Ольховку. Чего зря прохлаждаться? Начальник разведки Чибисов противиться не будет. Разве он не понимает, что у человека на душе, если он не видел шесть лет своих родных и близких? Поезд стал замедлять ход. В дверь пахнуло прохладой, и Ермаков сразу почувствовал — прибыл домой. В этих краях всегда так: зайдет солнышко — сразу становится свежо — неплохо бы накинуть на плечи фуфайку.
Паровоз, удушливо попыхивая, точно от усталости, медленно подтащил состав к перрону. Вот и знакомый приземистый бело-коричневый вокзал с маленькими окнами, невысокие запыленные деревья вокруг. К удивлению Ермакова, на перроне не было ни одного человека, как будто поезд пришел не в город, а на безымянный разъезд.
По сигналу командира взвод приготовился к высадке. Все столпились у дверей. Подай команду — и десятки каблуков горохом сыпанут по твердому асфальту перрона. Но команды почему-то не слышно. Почему? Чего зря мешкают?
А команды все нет. Вместо нее вдруг послышался протяжный паровозный свисток, и поезд медленно двинулся дальше.
— Вот тебе раз! — выдохнул Шилобреев, озадаченно поглядев на взводного. — Поздравляю с прибытием, Иван Епифанович!
Ермаков неопределенно пожал плечами, почесал в затылке и не мог сказать в ответ ни слова. Что ж тут говорить, если попал пальцем в небо? Кто-то с досады крякнул, кто-то по-озорному присвистнул. Разочарованные разведчики нехотя отошли от дверей, полезли на пары. Слышно было, как они расстегивали ремни, стаскивали с плеч вещмешки, снимали гимнастерки. В темноте послышался голос Терехина:
— Ахмет, разбуди меня во Владивостоке!
— Спи, разгильдяй, — пробурчал тот в ответ. — Никто тебя дальше не повезет. Некуда дальше. Понял? Там окиян.
— Это не играет значения, — ответил Санька, засыпая на полуслове.
Прошло не более часа, и вагон погрузился в глубокий сон. То из одного угла, то из другого доносился протяжный храп и сонное бормотанье. Солдатам снились, видно, родные места, знакомые лица. Не помышлял о сне один Ермаков. Он все стоял у дверной перекладины и с усилием пытался понять: что же все это значит? Куда их везут? Сгустившаяся темнота все плотнее окутывала теплушку. Ермаков докурил папиросу, бросил ее в темноту, поглядел на мелькнувший красный хвостик. Монотонно перестукивались равнодушные колеса, не давая ответа на жгучий вопрос, который сверлил ему голову.
Филипп Шилобреев немножко вздремнул, но почему-то проснулся. Под вагоном все так же стучали колеса, надсадно гудели рельсы. «Будет ли этому конец?» — спросил он себя и, глянув в темный дверной проем, незаметно улыбнулся. А улыбнулся он вот чему. Когда выезжали из Германии, Ермаков встретил на вокзале знакомого церковного звонаря однорукого Курта, дал ему сто марок и сказал: «Звони, дружище, в колокола до тех пор, пока не приеду на свою землю и не получу отпускную бумагу». Вот и звонит, поди, тот Курт целые две недели…
Решив перекурить, Филипп нащупал в кармане пачку сигарет, подошел к дверям, где стоял взводный.
— Ты знаешь, о чем я подумал, старшой? — Филипп никогда не называл его старшим сержантом, всегда — «старшой». — Не поставили бы нас с тобой охранять дальневосточную границу!
— Не мели чепуху, — ответил взводный, не поворачивая головы. — Некому ее здесь охранять — вы с Терехиным потребовались!
— Вполне возможно, — не сдавался Филипп. — Война-то здесь продолжается. Для безопасности и поставят.
Ермаков щелкнул зажигалкой, вспыхнувший крохотный огонек осветил его озабоченное лицо, насупленные брови. Но вдруг глаза у командира взвода озарились какой-то догадкой, сросшиеся брови взлетели кверху.
— Погоди, Филипп, ты что мне голову морочишь? — спросил он. — Ведь, по моим разведданным, харчей нам дали на полмесяца?
— На полмесяца.
— А едем две недели?
— Так точно.
— Так чего же ты горячку порешь, если у нас в запасе еще одни сутки?
— Но куда же ехать дальше Читы? Тут уж край нашей земли.
— До края еще далеко. До него ноги вытянешь. Это тебе не Европа, понял? Здесь у нас говорят: сто рублей — не деньги, а тыща верст — не расстояние.
— Что ты хочешь этим сказать?
— А я хочу тебя спросить: почему это бригады должны расформировываться в крупных городах? Почему ее нельзя расформировать на какой-нибудь станции вроде нашей Шилки? Или в таком городке, как, скажем, Нерчинск?
— Ну, фантазер! — засмеялся Филипп. — Может, ты еще скажешь — в вашей Ольховке?
— Никакой фантазии, — резанул ладонью Ермаков. — Я считаю, что Чита совсем не тот город, где полагается расформировывать части. Тут и без того народу довольно. Чего тут толпиться, наступать друг дружке на ноги?
— Подвел базу! Ну, стратег!
— А что, скажешь — не логично? То ли дело расформироваться у нас на Шилке! Простор — на целую армию.
— На Шилку… А может, дальше куда?
— Дальше нельзя: харчей не хватит.
— Ловко ты придумал, — ухмыльнулся в темноте Шилобреев. — Не подкопаешься.
— Чует мое сердце, что так и будет, уважаемый Филипп Филимонович. И придется, паря, жить тебе согласно нашему уговору не на уральских камнях, а в моей прекрасной деревне Ольховке, лучше которой нет ничего на свете.
— Не возражаю. Рыбалка-то у вас есть?
— Ха, рыбалка! Ты спроси, чего у нас нет. Это же не деревня, а сказка. Я во всей Европе таких не видывал.
— Караси али гальяны имеются?
— Сам ты карась премудрый. Ты представь себе нашу Ольховку в утреннюю пору. Над рекой солнце поднимается. Из труб — легкий дымок. К реке спускается тот белый сад, который Сулико вырастит. А на берегу стоят пять новеньких домов и в воду глядятся, будто хвастают своей красотой. Смолой от них пахнет. Твой дом, как моего помощника, рядом с моим.
— На берегу, конечно, Санька Терехин босиком по росе ходит, — засмеялся Филипп. — Так, что ли?
— Пускай ходит, разгильдяй. А по реке ты на лодке-моторке шастаешь. В лодке рыба серебром блестит. Костерок в твоей ограде задымился — ухой запахло. Семеро твоих ребятишек еще спят, а у тебя уже рыба на сковородке подпрыгивает.
— Ну и фантазер! — замахал руками Шилобреев.
Ермаков так размечтался, что сам поверил в свою мечту и начал готовиться к скорой встрече со своей деревней. Ведь от Шилки до Ольховки рукой подать. Пешком можно дойти. Никаких проездных документов не надо. Раз, два — и дома!
Ермаков быстро снял гимнастерку и начал отвинчивать ордена и медали. Шилобреев с недоумением поглядывал на него, терялся в догадках. Наступает самый подходящий момент блеснуть наградами, а он почему-то отвинчивает их. Зачем?
— Ты что это? Хочешь сверхскромность проявить? — заулыбался Шилобреев.
— Как надо, так и делаю.
При свете полной луны было хорошо видно, как проворно он орудует руками. Отстегнул ордена Славы всех трех степеней, потом обе медали «За отвагу». Снял все, кроме ордена Красного Знамени.
— Вот так-то будет лучше, — сказал он, подняв перед глазами гимнастерку и любуясь единственной наградой.
Взводный уже не раз удивлял всех своими чудачествами. В прошлом году его хотели представить за храбрость к званию младший лейтенант, а он отшутился. Дескать, какой расчет менять старшего на младшего? Уж лучше податься в Ольховку после войны — соскучился он по ней. За пленение фашистского оберста Ермакова представили к Герою, но дали вот этот орден Красного Знамени. Все сожалели, расстроенный комбриг звонил в штаб армии, писал новое представление. А Ермаков радовался, как ребенок. И по секрету признался Шилобрееву, что он всю войну мечтал о такой награде и не променяет ее ни на какие Золотые Звезды. Тогда Шилобреев только пожал плечами, а теперь решил спросить.
— Любопытное дело, почему ты больше всего дорожишь именно этой наградой?
— Нужна она мне, Филипп, до зарезу нужна, — ответил Ермаков, надевая гимнастерку. — Это ты поймешь только тогда, когда узнаешь всю мою биографию.
Подпоясав ремень, Ермаков закурил, положил локоть на дверную перекладину и, чувствуя, что заинтригованный Филипп ждет от него ответа, сказал нехотя:
— Все это для будущего тестя, будь он неладен. Скажу тебе одно: шибко вредный и занозистый старик. Я не знаю, что буду делать, если мой батяня припожалует в Ольховку. Они обязательно вцепятся друг в дружку, как петухи, и мне придется растаскивать их в разные стороны.
— Поможем в этом деле, — ободрил его Филипп. — Недаром говорят: сообща и батьку легче бить. Только я не знал, что у тебя и будущий тесть такой же никудышный.
— Сущий перец! Недолюбливает он меня. Считает «ненадежной породой».
— За что же он на тебя-то взъелся?
— Причина та же. Всю отцовскую вину на меня перекладывает. Бегляком прозвал. «Яблоко от яблони, — говорит, — недалеко падает».